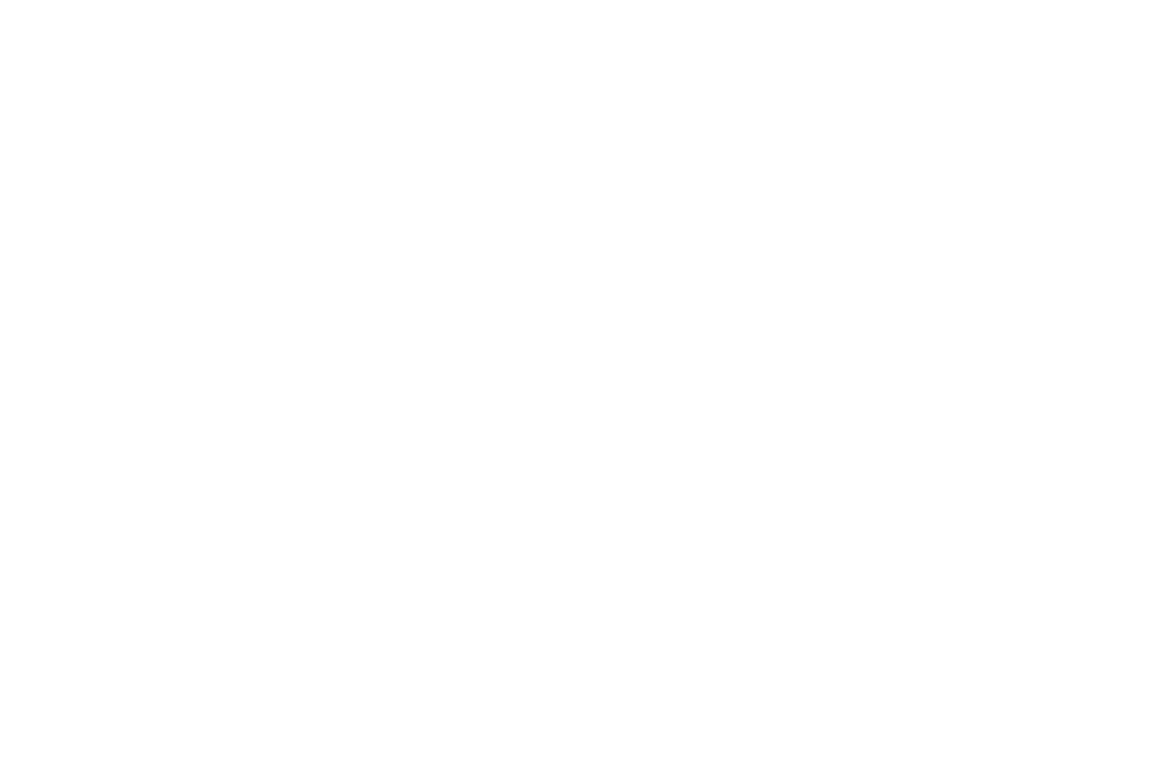
Алексей Варламов
Интервью: Евгений Сулес
У нас в гостях Алексей Николаевич Варламов - писатель, филолог, исследователь истории русской литературы XX века и ректор Литературного института имени Горького. Спасибо, что нашли для нас время. Наверное, у ректора Литинститута его немного. И мой первый вопрос – остается ли у вас время на себя, на свое творчество? Это, кстати, интересует не только меня. Готовясь к нашей встрече, я написал в фейсбуке: какой вопрос вы бы задали ректору «Лита» (здесь и далее: Литературный институт имени А. М. Горького – примеч. ред.). И среди прочего был вопрос: когда этот героический человек успевает писать крупную прозу, да к тому же качественную?
Я сам не знаю, когда я ее пишу. Но из того, что было написано мной, будучи ректором Литинститута, пока что ничего не было опубликовано. Если не считать самого последнего романа – он только что вышел в журнале «Октябрь». Но вряд ли этот номер уже успел дойти до широкой публики. А книга выйдет в апреле. Но за вопрос, за оценку – спасибо. То, что я, став ректором, не перестал писать – это факт. Я продолжаю. Конечно, получается урывками. Но без этого мне было бы совсем скучно.
Вы уже четыре года в Литинституте, два года – ректор, и еще два года были исполняющим обязанности. Какие перемены произошли за эти годы?
Было бы странно подумать, что с моим приходом институт сразу изменится. Да и что‑то резко менять надо было бы, если бы все было плохо‑плохо. Там же так не было. Были свои сложности и проблемы, но в целом все было достаточно хорошо, интересно. Что‑то ломать вообще не в моей натуре. Поэтому все изменения носят характер постепенный. Самое важно изменение – у нас началась долгожданная реконструкция. Мы ее ждали, к ней шли. Трудно было собрать все необходимые документы, подготовить проект, защитить его в Госэкспертизе, получить финансирование. Вот это нам наконец удалось сделать. Год назад, чуть больше, начались реставрационные работы. Это самое важное. А что касается учебного процесса, у нас, как мне представляется, последние лет десять‑пятнадцать произошел некоторый крен в филологию. Против которого я ничего не имею, я сам филолог и закончил филфак МГУ. Но, может быть, поэтому я понимаю, что есть некоторое преобладание слишком теоретических дисциплин, связанных с исторической грамматикой, старославянским языком и т. д., которые нужны, но не в таком объеме. Немножко бы это сократить и дать больше литературы, текущей литературы, практической работы. Так что в учебном плане изменения такие – сделать наш вуз менее филологическим, более творческим. Это то, что мы сейчас делаем.
Про реконструкцию тоже много вопросов. Спрашивают, в чем она конкретно заключается, и когда планируете закончить.
По условиям контракта, она должна закончиться в ноябре 2019 года. Мы очень надеемся, что строители сделают это с опережением. Тяжело жить на чемоданах. Здание не реставрировалось, не ремонтировалось бог знает сколько лет. В центральном корпусе усадьбы, где была библиотека, были перекошенные полы, там физически опасно было находиться, могли посыпаться полки, книги, стояли какие‑то подпорки. Все это было просто кошмарно. Тянуть было нельзя. Сейчас все реставрируется снизу доверху. Я уже видел, как хорошо работают строители, как тщательно все делают. И мы получим, с одной стороны, памятник архитектуры в центре, с другой стороны, он будет отреставрирован и, что очень важно, будет приспособлен к тем требованиям, которые предъявляются к учебным заведениям. Это требования пожарников, МЧС, Санэпидемстанции и прочее, чего раньше не было. Так что сейчас мы перетерпим, и все это будет, и будет очень хорошо.
Помимо ремонта основного здания что‑то достраивается?
Не то чтобы достраивается. Поскольку это памятник архитектуры, достроить в буквальном смысле слова ничего нельзя.
Спрашивают, кстати, про кафешку. Говорят, вот раньше была кафешка…
Сейчас есть столовая. Мы, по‑моему, единственный вуз в стране (в Москве – точно), который бесплатно кормит студентов. Столовая существует, студенты – пожалуйста, идут, едят. Никто закрывать ее не собирается. Тем более что мы обязаны – может быть, не бесплатно, но обязаны кормить совершенно точно.
Что у нас будет достроено? Те, кто представляет себе Литературный институт, может быть, помнят Книжную лавку писателей. Там был корпус, гараж, какие‑то хозяйственные помещения, вот там мы нашли чертежи, согласно которым, в старые времена это здание было двухэтажным, и там был большой‑большой сенник. Сейчас мы это достроим и получим дополнительно 700 кв. метров учебных площадей. Для нашего института это очень зд̞о́рово.
Должен отметить, что добрые языки говорят, вот пришел Варламов и наконец‑то реконструкция сдвинулась.
Я думаю, что она и без меня бы сдвинулась. Не буду преувеличивать свою роль. Хотя пришлось потрудиться. Это правда. Очень много было разных условий, чтобы это началось, и надо было, чтобы все эти условия совпали. Вот это нам удалось сделать. Но это не только моя заслуга. Это заслуга и моей команды, как говорят в таких случаях.
А команду вы привели с собой или она уже была?
Были люди. На мой взгляд, они очень хорошо работают. Конечно, какие‑то кадровые изменения произошли, но в целом те люди, которые готовили реконструкцию, мне кажется, очень хорошо справлялись со своими обязанностями и подготовили необходимую документацию, которая позволила нам начать реконструкцию.
В начале вы пришли в Литинститут как преподаватель?
Да, я пришел туда в 2006 году. Меня пригласили вести семинар «Проза» на заочном факультете. И я там с того времени работал, выпустил один курс заочников‑студентов, потом набрал другой. Потом, когда Борис Николаевич Тарасов просто по возрасту не мог больше выполнять обязанности ректора – там все строго очень: 70 лет – и все, человек должен оставить эту должность…
А это как‑то прописано?
Да, это закон, федеральный или какой‑то еще. Но, в принципе, это закон.
То есть не Литинститута, а закон федеральный?
Да, федеральный. У нас уникальный вуз, у нас, царствие небесное, Сергей Николаевич умер, но до последнего времени у нас три бывших ректора работало. Сидоров Евгений Юрьевич – был ректором, потом стал министром культуры, потом работал в представительстве ЮНЕСКО. После этого всего вернулся к нам и работает теперь как обычный преподаватель. Тот же Сергей Николаевич Есин – был ректором, потом ушел опять‑таки по возрасту, работал в институте, возглавлял кафедру литературного мастерства. И Борис Николаевич Тарасов, предыдущий ректор, тоже сейчас продолжает работать. Так что преемственность у нас сохраняется.
А мастерскую вы продолжаете вести?
Да, продолжаю.
Наши зрители – в основном люди пишущие, поэты, прозаики. Но большинство из них не заканчивали Литинститут, и представления их о «Лите» смутные. Чему учат в «Лите»? Как происходит обучение?
Во‑первых, все очень индивидуально. Зависит от того, к какому мастеру попадешь. Собственно, обучение литературному мастерству, литературному творчеству – это вопрос твоего семинара и твоего мастера.
А ты сразу попадаешь к какому‑то мастеру?
Да, сразу. Единственное, бывает, что студент с мастером не сработался или, наоборот. И тогда мастерскую можно поменять. Не то чтобы это бывает часто, но бывает.
А бывает, что с «Прозы» на «Поэзию» перескочили?
Чаще, наоборот, из «Поэзии» уходят в «Прозу». Это довольно распространенное явление. А чтобы из «Прозы» в «Поэзию», такие случаи мне известны гораздо меньше. А так мы даем хорошее гуманитарное филологическое образование. Ведь институт был замыслен Горьким в 1932‑1933 году именно как институт, в котором тогдашнюю советскую рабочую молодежь учили писать, читать, давали какие‑то навыки культуры. Мне кажется, эта система себя оправдала. Помню, я прочитал в какой‑то книжке очень умную мысль, что в XX веке никакой поэт, никакой писатель, никакой художник не может сформироваться вне литературы. И даже когда возникают такие примеры, как Шукшин, или Андрей Платонов, или Николай Клюев… Есть такая легенда, что эти люди пришли в литературу из природы, не были отягощены никакими знаниями, никаким бэкграундом, как сейчас говорят, просто такие гениальные самородки. Это миф, который они сами создавали с теми или иными целями. Все трое, кого я назвал, были в высшей степени образованными и начитанными людьми. И я убежден, и практика показывает, что без хорошего гуманитарного всестороннего образования поэта, писателя не получится. И Литинститут это дает. Но все‑таки мы не филологический факультет. У нас нет такого упора на теорию, на языкознание. Они есть, но в том объеме, в котором это необходимо будущему литератору. Зато чего очень много, и чего нет на филологических факультетах, – это текущей, современной литературы, которую люди сейчас плоховато знают, к сожалению. А у нас с первого курса начинаются семинары по текущей литературе, и мне представляется это очень важным.
Как мне кажется, сейчас возникает довольно много литературных школ, в том числе в Москве, и хорошие. Я лично знаком с Майей Кучерской, у которой своя школа, в «Высшей школе экономики» у них сейчас открылась магистратура, с Марией Голованивской, с которой я вместе учился на филфаке. Возможно, я не очень точно формулирую то, что они хотят сделать, но они говорят: «Мы вас научим писать. Приходите к нам, и мы за три месяца или за год научим вас, как написать бестселлер, как написать роман, как написать повесть». А я в это не очень верю. Не они это придумали, это еще writing workshops, где‑то там, на Западе. Мне кажется, так не бывает. И более продуктивно и правильно действовать не методом прямого воздействия, а, скорее, некой гомеопатией. То есть создавать среду, атмосферу, условия, в которых талант человека сам начнет расти.
Вот Литинститут – если талантливый человек, он попадает в среду, которая его заряжает, помогает развиваться его литературным способностям, ускоряет их развитие. Наша задача – создать вот эту атмосферу, эту влажность. Парник здесь, конечно, неподходяще слово. Скорее, наоборот, этот парник разломать, чтобы появились эти ветра (взмахивает руками), это ощущение реальной жизни, доверие к жизни. Вот эта атмосфера, она в институте создается. Все мы одиночки, и никто нам помочь не может, когда мы один на один с компьютером, с листом бумаги. Наоборот, все против нас, вся написанная литература против тебя. Зачем ты нужен, зачем нужна твоя вещь, и так столько всего написано. Но тебя все‑таки что‑то мучает и заставляет писать. Но в какой‑то момент пишущим людям надо оказаться среди людей, ему подобных. Мы не предлагаем это сделать за три месяца или за год, мы понимаем, что этого недостаточно, надо погрузить его на более длительное время. Вот эти пять лет счастья в нашем литинститутском дворике, а кому повезло еще больше, тот живет в общежитии и там продолжается литературное общение, литературная жизнь, общение с мастером, возможность ходить на другие семинары. Вот это мне кажется сверхзадачей Литературного института.
И что мне нравится – нам удается противостоять, насколько это возможно, тем разрушительным веяниями, которые существуют в нынешней системе образования, в том числе – высшего. Я убежден, что у нас сейчас с высшей школой – беда. Эта погоня за всякими рейтингами, попытки угнаться за западными университетами, индексами, которыми мучают людей (поскольку я работаю в МГУ, я знаю, о чем говорю). Нам удается этому противостоять. Мы – творческий вуз, мы стараемся быть в стороне от этого. И мне кажется, очень здо́рово, что у нас статус творческого вуза, мы принадлежим к министерству культуры, а не к министерству образования, это позволяет нам сохранить некую спасительную автономию.
Если взять Creative Writing School, они говорят: «Мы учим писать». В этом смысле критика Литинститута говорит: «Там учат скорее читать, чем писать». А если взять Creative Writing School, но не три месяца, а те же пять лет, с целеполаганием именно научить писать. Будет ли результат?
Мы же это и делаем. У нас как построено обучение – если пятидневная рабочая неделя, у нас четыре дня идут общие курсы, а вторник – день, когда нет никаких других занятий, есть только литературные семинары и студенты общаются с мастером. Это происходит раз в неделю. Если дневное отделение – пять лет, довольно большой объем часов получается. Собственно, это и есть Creative Writing School. Критерий один. Когда из этих школ начнут выходить писатели, чьи имена будут на слуху, чьи произведения станут, ну, не бестселлерам, но фактом литературы, тогда можно будет говорить о результатах. Литинститут своей долгой историей существования доказал, что можно сколько угодно спорить, нужен он, не нужен, хорош он, плох, но если просто посмотреть список его выпускников, все вопросы отпадут сами собой. Я почти не знаю людей, кто не был бы благодарен институту. Есть, конечно, какие‑то, но, как правило, критикуют институт те, у кого в литературе не очень хорошо получилось. Те, у кого в литературе получилось, они Литинституту благодарны.
По поводу выпускников. Если брать не всю историю, а последние 20‑30 лет. Кем вы особенно гордитесь, кого приводите в пример – вот, из нашего «Лита» вышли… Вот кто?
Пожалуйста – Роман Сенчин, Олег Павлов. Пелевин у нас, кстати, учился… не доучился.
А это симптоматично, что Пелевин не доучился?
Не знаю. У нас есть студенты, которые не доучиваются. Потом. Если говорить о поэзии – Максим Амелин, блистательный, замечательный поэт. Павел Басинский, один из самых ярких авторов, который работает в жанре документальной прозы. И он не только окончил институт, он продолжает там преподавать. Это тоже отдельна важная статья. Михаил Попов, Александр Сегень – замечательные яркие писатели. Олеся Николаева – очень интересный прозаик, поэт. Мне кажется – хорошие имена.
Немного провокационный вопрос. Звонит вам друг и говорит, вот, у меня сын, пишет стихи или, там, прозу. Думает, куда поступать, хочет стать писателем. То ли филфак МГУ, то ли Литинститут. Куда вы посоветуете?
Мне такой вопрос задавали. Когда я еще не был ректором, работал в университете профессором и вел творческий семинар. Я сказал – там (в Литинституте – примеч.ред.). Правда, девочка была. Если девочка хочет пять лет счастья, то, конечно, надо идти в Литинститут, там более интересная, разнообразная, живая, яркая жизнь. Если смотреть на вещи более прагматически, то здесь труднее. На филфаке вы получите более серьезное лингвистическое образование, наверное, лучше выучите иностранные языки, там просто больше часов. Ведь какая штука, мы понимаем, не все выпускники Литинститута ни в какие времена, и в нынешние тоже, обязательно становятся профессиональными литераторами, которые могут жить, кормиться литературой. К сожалению, литература кормит напрямую очень немногих. Но так или иначе все устраиваются. Кто‑то лучше, кто‑то хуже. Но умение, ремесло, которое мы даем – работа со словом, в области художественной литературы, политической, общественной, экономической, юридической, какой угодно. Всякие пресс‑атташе, спичрайтеры, журналисты, телеведущие – кем только не становятся выпускники Литинститута. Священников довольно много, кстати. Слово – оно и с большой, и с маленькой буквы, и сакральное слово, какое годно – вот это хлеб. Но у университета есть свои преимущества – более фундаментальное, основательное академическое образование.
Многое зависит от характера человека. В нашем институте без таланта чего делать? Вот в университете – ты неталантливый, ну и ладно. Если у тебя задница усидчивая, то ты чего‑нибудь выучишь, вынесешь, и все у тебя получится. А творческий вуз – это творческий вуз. Здесь одной только усидчивостью не возьмешь. Надо иметь божью искру. Поэтому есть определенный риск. У нас не все, действительно, доучиваются, кто поступил. Есть люди, которые уходят. Ну, приятно вам, когда на ежегодной аттестации мастер, у которого вы занимаетесь, говорит, что вы профнепригодны? Тебе 18‑19 лет, и такой приговор выписывают. Но это во всех творческих вузах так. В консерватории, театральном вузе вас, в принципе, может ждать то же самое. У творческих вузов много плюсов, но есть и свои опасности. И надо просто знать своего ребенка, прежде чем советовать ему, куда идти. И учитывать его желания.
Я бы так сказал: если ты не хочешь идти в Литинститут, то и не надо. Вот если ты не хочешь идти на филфак, то подумай, деточка. Здесь есть смысл уговаривать. Ты ничего не теряешь и все равно там чему‑нибудь да научишься. А если не хочешь идти в Литинститут, не надо заставлять. Это вообще касается литературы, заставлять людей писать – упаси боже. Зачем? И так у нас такое количество людей в стране пишет! Зачем столько. Столько не надо.
А у вас был личный ваш выбор: филфак, Литинститут или еще что‑то?
После школы в Литинститут я не мог бы поступать просто потому, что тогда было очень разумное требование – в институт принимали только с трудовым стажем. И это правильно. К сожалению, сегодня этого нет, это нарушило бы закон об образовании. Во‑вторых, я тогда не собирался так уж серьезно быть писателем. Я пробовал что‑то писать, но мысли, что я стану писателем, у меня не было. Я знал, что есть Литинститут, но я думал, что это для каких‑то особо избранных, невероятно одаренных людей. Я себя к таковым тогда не причислял. И поэтому я пошел всего‑навсего в МГУ, на филфак. И мне там очень нравилось. Там было очень здо́рово учиться, я очень благодарен, что окончил университет. А потом так получилось, что судьба связала меня с Литературным институтом. Я очень привязан к этому зданию, к людям, которые там работают. Мне там очень хорошо работается.
В 2005 году в «Огоньке» была резкая статья Дмитрия Быкова «Остановить крысолова». Про Литинститут. Где он предлагал его закрыть и, собственно, говорил, что Литинститут плодит лишних людей. Согласны вы с этим? Понятно, что не согласны, но что вы готовы на это ответить?
Я не читал эту статью. И к Быкову хорошо отношусь. Он талантливый, яркий, парадоксальный человек. Но он там не учился. Все‑таки если бы он учился, его статья имела бы немножко больший вес. А так, чего ты рассуждаешь о том, чего не знаешь. Лишние люди для нашей литературы – это вообще святые люди. У нас, можно сказать, вся литература посвящена лишним людям. Если он действительно использует выражение «лишний человек»…
Да, там именно так.
Может, и неплохо, что там возникают лишние люди. Что бы мы были без Онегина, без Печорина, без Обломова. Чего б мы без них делали? Непонятно. Пусть какое‑то количество лишних людей будет. А закрыть. Ну, это жириновщина какая‑то. Ну, можно закрыть… Не знаю, мне кажется, от либерального человека такие полицейские призывы… Не знаю…
А вообще, «Лит» – уникальная вещь? На западе есть такие литературные институты?
Мы долгое время говорили, что мы уникальные. Потом, в советское время, что‑то типа Литинститута появилось в двух точках земного шара, как мне рассказывали, в Дрездене и в Ханое, кажется, во Вьетнаме где‑то. Но вообще – да, есть. В Америке есть The International Writing Program. Ее, наверное, можно сравнить с Литературным институтом. Но если уж совсем трезво смотреть на вещи, вряд ли мы уж совсем уникальны. Но в том виде, в котором мы существуем, вот такое фундаментальное образование, не узкое – «я научу вас писать бестселлер» – в этом виде мы, конечно, уникальны.
А можно вообще войти в литературу с целью написать бестселлер?
Я думаю, можно все. Сказать, что существуют какие‑то категорические запреты, что это нельзя, а это невозможно – так не бывает. Всегда найдется исключение. Но русская практика показывает, что для нас литература – в меньшей степени ремесло. Пока еще. Хотя уже эти элементы ремесла пробиваются. А в большей – что‑то такое: муза явилась, боговдохновенная. Не знаю, хорошо это или плохо, но это так. Мне кажется, что у русского человека, русского литератора, русского писателя свои отношения с таким эфемерным, зыбким, но несомненно существующим понятием, как вдохновение. И поэтому я не верю, что можно прочитать руководство по созданию бестселлера и бестселлер написать. У нас в России оно по‑другому происходит.
Я сам не знаю, когда я ее пишу. Но из того, что было написано мной, будучи ректором Литинститута, пока что ничего не было опубликовано. Если не считать самого последнего романа – он только что вышел в журнале «Октябрь». Но вряд ли этот номер уже успел дойти до широкой публики. А книга выйдет в апреле. Но за вопрос, за оценку – спасибо. То, что я, став ректором, не перестал писать – это факт. Я продолжаю. Конечно, получается урывками. Но без этого мне было бы совсем скучно.
Вы уже четыре года в Литинституте, два года – ректор, и еще два года были исполняющим обязанности. Какие перемены произошли за эти годы?
Было бы странно подумать, что с моим приходом институт сразу изменится. Да и что‑то резко менять надо было бы, если бы все было плохо‑плохо. Там же так не было. Были свои сложности и проблемы, но в целом все было достаточно хорошо, интересно. Что‑то ломать вообще не в моей натуре. Поэтому все изменения носят характер постепенный. Самое важно изменение – у нас началась долгожданная реконструкция. Мы ее ждали, к ней шли. Трудно было собрать все необходимые документы, подготовить проект, защитить его в Госэкспертизе, получить финансирование. Вот это нам наконец удалось сделать. Год назад, чуть больше, начались реставрационные работы. Это самое важное. А что касается учебного процесса, у нас, как мне представляется, последние лет десять‑пятнадцать произошел некоторый крен в филологию. Против которого я ничего не имею, я сам филолог и закончил филфак МГУ. Но, может быть, поэтому я понимаю, что есть некоторое преобладание слишком теоретических дисциплин, связанных с исторической грамматикой, старославянским языком и т. д., которые нужны, но не в таком объеме. Немножко бы это сократить и дать больше литературы, текущей литературы, практической работы. Так что в учебном плане изменения такие – сделать наш вуз менее филологическим, более творческим. Это то, что мы сейчас делаем.
Про реконструкцию тоже много вопросов. Спрашивают, в чем она конкретно заключается, и когда планируете закончить.
По условиям контракта, она должна закончиться в ноябре 2019 года. Мы очень надеемся, что строители сделают это с опережением. Тяжело жить на чемоданах. Здание не реставрировалось, не ремонтировалось бог знает сколько лет. В центральном корпусе усадьбы, где была библиотека, были перекошенные полы, там физически опасно было находиться, могли посыпаться полки, книги, стояли какие‑то подпорки. Все это было просто кошмарно. Тянуть было нельзя. Сейчас все реставрируется снизу доверху. Я уже видел, как хорошо работают строители, как тщательно все делают. И мы получим, с одной стороны, памятник архитектуры в центре, с другой стороны, он будет отреставрирован и, что очень важно, будет приспособлен к тем требованиям, которые предъявляются к учебным заведениям. Это требования пожарников, МЧС, Санэпидемстанции и прочее, чего раньше не было. Так что сейчас мы перетерпим, и все это будет, и будет очень хорошо.
Помимо ремонта основного здания что‑то достраивается?
Не то чтобы достраивается. Поскольку это памятник архитектуры, достроить в буквальном смысле слова ничего нельзя.
Спрашивают, кстати, про кафешку. Говорят, вот раньше была кафешка…
Сейчас есть столовая. Мы, по‑моему, единственный вуз в стране (в Москве – точно), который бесплатно кормит студентов. Столовая существует, студенты – пожалуйста, идут, едят. Никто закрывать ее не собирается. Тем более что мы обязаны – может быть, не бесплатно, но обязаны кормить совершенно точно.
Что у нас будет достроено? Те, кто представляет себе Литературный институт, может быть, помнят Книжную лавку писателей. Там был корпус, гараж, какие‑то хозяйственные помещения, вот там мы нашли чертежи, согласно которым, в старые времена это здание было двухэтажным, и там был большой‑большой сенник. Сейчас мы это достроим и получим дополнительно 700 кв. метров учебных площадей. Для нашего института это очень зд̞о́рово.
Должен отметить, что добрые языки говорят, вот пришел Варламов и наконец‑то реконструкция сдвинулась.
Я думаю, что она и без меня бы сдвинулась. Не буду преувеличивать свою роль. Хотя пришлось потрудиться. Это правда. Очень много было разных условий, чтобы это началось, и надо было, чтобы все эти условия совпали. Вот это нам удалось сделать. Но это не только моя заслуга. Это заслуга и моей команды, как говорят в таких случаях.
А команду вы привели с собой или она уже была?
Были люди. На мой взгляд, они очень хорошо работают. Конечно, какие‑то кадровые изменения произошли, но в целом те люди, которые готовили реконструкцию, мне кажется, очень хорошо справлялись со своими обязанностями и подготовили необходимую документацию, которая позволила нам начать реконструкцию.
В начале вы пришли в Литинститут как преподаватель?
Да, я пришел туда в 2006 году. Меня пригласили вести семинар «Проза» на заочном факультете. И я там с того времени работал, выпустил один курс заочников‑студентов, потом набрал другой. Потом, когда Борис Николаевич Тарасов просто по возрасту не мог больше выполнять обязанности ректора – там все строго очень: 70 лет – и все, человек должен оставить эту должность…
А это как‑то прописано?
Да, это закон, федеральный или какой‑то еще. Но, в принципе, это закон.
То есть не Литинститута, а закон федеральный?
Да, федеральный. У нас уникальный вуз, у нас, царствие небесное, Сергей Николаевич умер, но до последнего времени у нас три бывших ректора работало. Сидоров Евгений Юрьевич – был ректором, потом стал министром культуры, потом работал в представительстве ЮНЕСКО. После этого всего вернулся к нам и работает теперь как обычный преподаватель. Тот же Сергей Николаевич Есин – был ректором, потом ушел опять‑таки по возрасту, работал в институте, возглавлял кафедру литературного мастерства. И Борис Николаевич Тарасов, предыдущий ректор, тоже сейчас продолжает работать. Так что преемственность у нас сохраняется.
А мастерскую вы продолжаете вести?
Да, продолжаю.
Наши зрители – в основном люди пишущие, поэты, прозаики. Но большинство из них не заканчивали Литинститут, и представления их о «Лите» смутные. Чему учат в «Лите»? Как происходит обучение?
Во‑первых, все очень индивидуально. Зависит от того, к какому мастеру попадешь. Собственно, обучение литературному мастерству, литературному творчеству – это вопрос твоего семинара и твоего мастера.
А ты сразу попадаешь к какому‑то мастеру?
Да, сразу. Единственное, бывает, что студент с мастером не сработался или, наоборот. И тогда мастерскую можно поменять. Не то чтобы это бывает часто, но бывает.
А бывает, что с «Прозы» на «Поэзию» перескочили?
Чаще, наоборот, из «Поэзии» уходят в «Прозу». Это довольно распространенное явление. А чтобы из «Прозы» в «Поэзию», такие случаи мне известны гораздо меньше. А так мы даем хорошее гуманитарное филологическое образование. Ведь институт был замыслен Горьким в 1932‑1933 году именно как институт, в котором тогдашнюю советскую рабочую молодежь учили писать, читать, давали какие‑то навыки культуры. Мне кажется, эта система себя оправдала. Помню, я прочитал в какой‑то книжке очень умную мысль, что в XX веке никакой поэт, никакой писатель, никакой художник не может сформироваться вне литературы. И даже когда возникают такие примеры, как Шукшин, или Андрей Платонов, или Николай Клюев… Есть такая легенда, что эти люди пришли в литературу из природы, не были отягощены никакими знаниями, никаким бэкграундом, как сейчас говорят, просто такие гениальные самородки. Это миф, который они сами создавали с теми или иными целями. Все трое, кого я назвал, были в высшей степени образованными и начитанными людьми. И я убежден, и практика показывает, что без хорошего гуманитарного всестороннего образования поэта, писателя не получится. И Литинститут это дает. Но все‑таки мы не филологический факультет. У нас нет такого упора на теорию, на языкознание. Они есть, но в том объеме, в котором это необходимо будущему литератору. Зато чего очень много, и чего нет на филологических факультетах, – это текущей, современной литературы, которую люди сейчас плоховато знают, к сожалению. А у нас с первого курса начинаются семинары по текущей литературе, и мне представляется это очень важным.
Как мне кажется, сейчас возникает довольно много литературных школ, в том числе в Москве, и хорошие. Я лично знаком с Майей Кучерской, у которой своя школа, в «Высшей школе экономики» у них сейчас открылась магистратура, с Марией Голованивской, с которой я вместе учился на филфаке. Возможно, я не очень точно формулирую то, что они хотят сделать, но они говорят: «Мы вас научим писать. Приходите к нам, и мы за три месяца или за год научим вас, как написать бестселлер, как написать роман, как написать повесть». А я в это не очень верю. Не они это придумали, это еще writing workshops, где‑то там, на Западе. Мне кажется, так не бывает. И более продуктивно и правильно действовать не методом прямого воздействия, а, скорее, некой гомеопатией. То есть создавать среду, атмосферу, условия, в которых талант человека сам начнет расти.
Вот Литинститут – если талантливый человек, он попадает в среду, которая его заряжает, помогает развиваться его литературным способностям, ускоряет их развитие. Наша задача – создать вот эту атмосферу, эту влажность. Парник здесь, конечно, неподходяще слово. Скорее, наоборот, этот парник разломать, чтобы появились эти ветра (взмахивает руками), это ощущение реальной жизни, доверие к жизни. Вот эта атмосфера, она в институте создается. Все мы одиночки, и никто нам помочь не может, когда мы один на один с компьютером, с листом бумаги. Наоборот, все против нас, вся написанная литература против тебя. Зачем ты нужен, зачем нужна твоя вещь, и так столько всего написано. Но тебя все‑таки что‑то мучает и заставляет писать. Но в какой‑то момент пишущим людям надо оказаться среди людей, ему подобных. Мы не предлагаем это сделать за три месяца или за год, мы понимаем, что этого недостаточно, надо погрузить его на более длительное время. Вот эти пять лет счастья в нашем литинститутском дворике, а кому повезло еще больше, тот живет в общежитии и там продолжается литературное общение, литературная жизнь, общение с мастером, возможность ходить на другие семинары. Вот это мне кажется сверхзадачей Литературного института.
И что мне нравится – нам удается противостоять, насколько это возможно, тем разрушительным веяниями, которые существуют в нынешней системе образования, в том числе – высшего. Я убежден, что у нас сейчас с высшей школой – беда. Эта погоня за всякими рейтингами, попытки угнаться за западными университетами, индексами, которыми мучают людей (поскольку я работаю в МГУ, я знаю, о чем говорю). Нам удается этому противостоять. Мы – творческий вуз, мы стараемся быть в стороне от этого. И мне кажется, очень здо́рово, что у нас статус творческого вуза, мы принадлежим к министерству культуры, а не к министерству образования, это позволяет нам сохранить некую спасительную автономию.
Если взять Creative Writing School, они говорят: «Мы учим писать». В этом смысле критика Литинститута говорит: «Там учат скорее читать, чем писать». А если взять Creative Writing School, но не три месяца, а те же пять лет, с целеполаганием именно научить писать. Будет ли результат?
Мы же это и делаем. У нас как построено обучение – если пятидневная рабочая неделя, у нас четыре дня идут общие курсы, а вторник – день, когда нет никаких других занятий, есть только литературные семинары и студенты общаются с мастером. Это происходит раз в неделю. Если дневное отделение – пять лет, довольно большой объем часов получается. Собственно, это и есть Creative Writing School. Критерий один. Когда из этих школ начнут выходить писатели, чьи имена будут на слуху, чьи произведения станут, ну, не бестселлерам, но фактом литературы, тогда можно будет говорить о результатах. Литинститут своей долгой историей существования доказал, что можно сколько угодно спорить, нужен он, не нужен, хорош он, плох, но если просто посмотреть список его выпускников, все вопросы отпадут сами собой. Я почти не знаю людей, кто не был бы благодарен институту. Есть, конечно, какие‑то, но, как правило, критикуют институт те, у кого в литературе не очень хорошо получилось. Те, у кого в литературе получилось, они Литинституту благодарны.
По поводу выпускников. Если брать не всю историю, а последние 20‑30 лет. Кем вы особенно гордитесь, кого приводите в пример – вот, из нашего «Лита» вышли… Вот кто?
Пожалуйста – Роман Сенчин, Олег Павлов. Пелевин у нас, кстати, учился… не доучился.
А это симптоматично, что Пелевин не доучился?
Не знаю. У нас есть студенты, которые не доучиваются. Потом. Если говорить о поэзии – Максим Амелин, блистательный, замечательный поэт. Павел Басинский, один из самых ярких авторов, который работает в жанре документальной прозы. И он не только окончил институт, он продолжает там преподавать. Это тоже отдельна важная статья. Михаил Попов, Александр Сегень – замечательные яркие писатели. Олеся Николаева – очень интересный прозаик, поэт. Мне кажется – хорошие имена.
Немного провокационный вопрос. Звонит вам друг и говорит, вот, у меня сын, пишет стихи или, там, прозу. Думает, куда поступать, хочет стать писателем. То ли филфак МГУ, то ли Литинститут. Куда вы посоветуете?
Мне такой вопрос задавали. Когда я еще не был ректором, работал в университете профессором и вел творческий семинар. Я сказал – там (в Литинституте – примеч.ред.). Правда, девочка была. Если девочка хочет пять лет счастья, то, конечно, надо идти в Литинститут, там более интересная, разнообразная, живая, яркая жизнь. Если смотреть на вещи более прагматически, то здесь труднее. На филфаке вы получите более серьезное лингвистическое образование, наверное, лучше выучите иностранные языки, там просто больше часов. Ведь какая штука, мы понимаем, не все выпускники Литинститута ни в какие времена, и в нынешние тоже, обязательно становятся профессиональными литераторами, которые могут жить, кормиться литературой. К сожалению, литература кормит напрямую очень немногих. Но так или иначе все устраиваются. Кто‑то лучше, кто‑то хуже. Но умение, ремесло, которое мы даем – работа со словом, в области художественной литературы, политической, общественной, экономической, юридической, какой угодно. Всякие пресс‑атташе, спичрайтеры, журналисты, телеведущие – кем только не становятся выпускники Литинститута. Священников довольно много, кстати. Слово – оно и с большой, и с маленькой буквы, и сакральное слово, какое годно – вот это хлеб. Но у университета есть свои преимущества – более фундаментальное, основательное академическое образование.
Многое зависит от характера человека. В нашем институте без таланта чего делать? Вот в университете – ты неталантливый, ну и ладно. Если у тебя задница усидчивая, то ты чего‑нибудь выучишь, вынесешь, и все у тебя получится. А творческий вуз – это творческий вуз. Здесь одной только усидчивостью не возьмешь. Надо иметь божью искру. Поэтому есть определенный риск. У нас не все, действительно, доучиваются, кто поступил. Есть люди, которые уходят. Ну, приятно вам, когда на ежегодной аттестации мастер, у которого вы занимаетесь, говорит, что вы профнепригодны? Тебе 18‑19 лет, и такой приговор выписывают. Но это во всех творческих вузах так. В консерватории, театральном вузе вас, в принципе, может ждать то же самое. У творческих вузов много плюсов, но есть и свои опасности. И надо просто знать своего ребенка, прежде чем советовать ему, куда идти. И учитывать его желания.
Я бы так сказал: если ты не хочешь идти в Литинститут, то и не надо. Вот если ты не хочешь идти на филфак, то подумай, деточка. Здесь есть смысл уговаривать. Ты ничего не теряешь и все равно там чему‑нибудь да научишься. А если не хочешь идти в Литинститут, не надо заставлять. Это вообще касается литературы, заставлять людей писать – упаси боже. Зачем? И так у нас такое количество людей в стране пишет! Зачем столько. Столько не надо.
А у вас был личный ваш выбор: филфак, Литинститут или еще что‑то?
После школы в Литинститут я не мог бы поступать просто потому, что тогда было очень разумное требование – в институт принимали только с трудовым стажем. И это правильно. К сожалению, сегодня этого нет, это нарушило бы закон об образовании. Во‑вторых, я тогда не собирался так уж серьезно быть писателем. Я пробовал что‑то писать, но мысли, что я стану писателем, у меня не было. Я знал, что есть Литинститут, но я думал, что это для каких‑то особо избранных, невероятно одаренных людей. Я себя к таковым тогда не причислял. И поэтому я пошел всего‑навсего в МГУ, на филфак. И мне там очень нравилось. Там было очень здо́рово учиться, я очень благодарен, что окончил университет. А потом так получилось, что судьба связала меня с Литературным институтом. Я очень привязан к этому зданию, к людям, которые там работают. Мне там очень хорошо работается.
В 2005 году в «Огоньке» была резкая статья Дмитрия Быкова «Остановить крысолова». Про Литинститут. Где он предлагал его закрыть и, собственно, говорил, что Литинститут плодит лишних людей. Согласны вы с этим? Понятно, что не согласны, но что вы готовы на это ответить?
Я не читал эту статью. И к Быкову хорошо отношусь. Он талантливый, яркий, парадоксальный человек. Но он там не учился. Все‑таки если бы он учился, его статья имела бы немножко больший вес. А так, чего ты рассуждаешь о том, чего не знаешь. Лишние люди для нашей литературы – это вообще святые люди. У нас, можно сказать, вся литература посвящена лишним людям. Если он действительно использует выражение «лишний человек»…
Да, там именно так.
Может, и неплохо, что там возникают лишние люди. Что бы мы были без Онегина, без Печорина, без Обломова. Чего б мы без них делали? Непонятно. Пусть какое‑то количество лишних людей будет. А закрыть. Ну, это жириновщина какая‑то. Ну, можно закрыть… Не знаю, мне кажется, от либерального человека такие полицейские призывы… Не знаю…
А вообще, «Лит» – уникальная вещь? На западе есть такие литературные институты?
Мы долгое время говорили, что мы уникальные. Потом, в советское время, что‑то типа Литинститута появилось в двух точках земного шара, как мне рассказывали, в Дрездене и в Ханое, кажется, во Вьетнаме где‑то. Но вообще – да, есть. В Америке есть The International Writing Program. Ее, наверное, можно сравнить с Литературным институтом. Но если уж совсем трезво смотреть на вещи, вряд ли мы уж совсем уникальны. Но в том виде, в котором мы существуем, вот такое фундаментальное образование, не узкое – «я научу вас писать бестселлер» – в этом виде мы, конечно, уникальны.
А можно вообще войти в литературу с целью написать бестселлер?
Я думаю, можно все. Сказать, что существуют какие‑то категорические запреты, что это нельзя, а это невозможно – так не бывает. Всегда найдется исключение. Но русская практика показывает, что для нас литература – в меньшей степени ремесло. Пока еще. Хотя уже эти элементы ремесла пробиваются. А в большей – что‑то такое: муза явилась, боговдохновенная. Не знаю, хорошо это или плохо, но это так. Мне кажется, что у русского человека, русского литератора, русского писателя свои отношения с таким эфемерным, зыбким, но несомненно существующим понятием, как вдохновение. И поэтому я не верю, что можно прочитать руководство по созданию бестселлера и бестселлер написать. У нас в России оно по‑другому происходит.
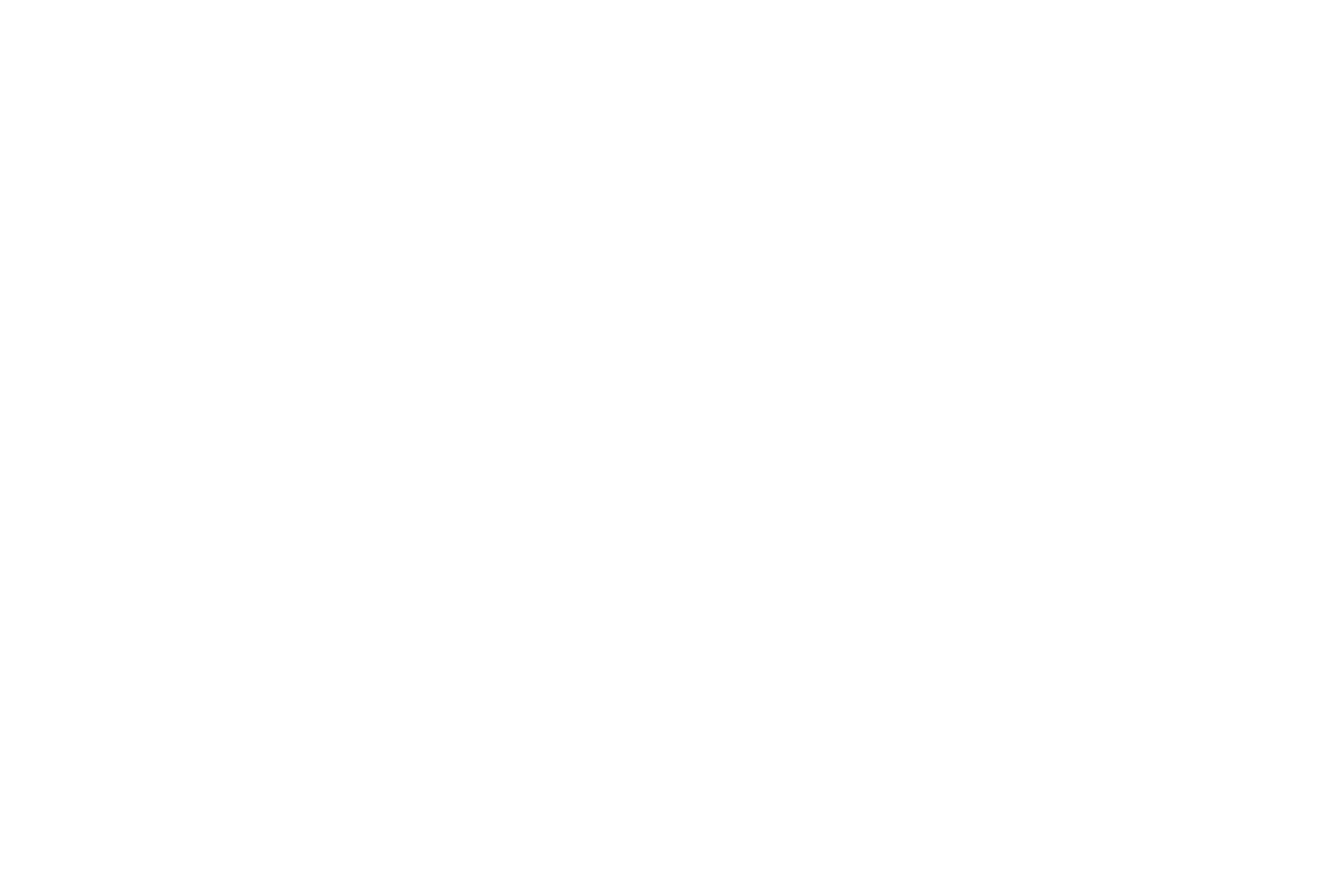
Что нужно, чтобы поступить в Литинститут? Существует ли еще творческий конкурс?
Да, конечно. Естественно, нужно иметь аттестат. Нужны, к сожалению (будь моя воля, я бы это отменил), результаты двух экзаменов ЕГЭ – русский язык и литература. И помимо этого есть творческий конкурс - это работа, которую вы присылаете. И дальше, если вы допущены к экзаменам… мы отсеиваем совсем уж неудачные, откровенно слабые работы. Если вы получаете двойку, вас не допускают. Но, в принципе, мы все равно стараемся сначала на человека посмотреть. Абитуриенты, когда к нам приезжают, предъявляют два экзамена ЕГЭ, пишут творческий этюд – это что‑то вроде сочинения, но не на литературоведческую, не на критическую тему, вроде «Образа лишнего человека», а на какие- то интересные темы. Например, «Дорога к дому». Или «Кошка, которая бежит по моей улице». Или «Каким мне видится будущее». Обычно дается на выбор пять‑шесть тем, и люди должны написать эссе.
Это все уже в аудитории происходит? Сколько времени дается?
Да, в аудитории. Четыре часа. Они пишут эссе, а дальше – творческое собеседование. Из этих оценок складывается общий балл. Конкурс у нас – шесть‑семь человек на место.
А раньше сколько был, в 90‑е?
В 90‑е не могу сказать точно, но то, что в 70‑80‑е доходило до 100 человек на место – это факт. Но тогда и мест было меньше. У нас есть отделение литературного творчества, есть отделение художественного перевода. Литературное творчество – это «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Публицистика», «Детская литература». Художественный перевод есть с основных европейских языков, и то, что я говорил в самом начале – мы добавили языки народов РФ.
А на «Детскую литературу» много поступает? Есть мнение, что она сейчас не очень…
Поступают. Не могу сказать, что очень много, но поступают. У нас семинар детской литературы, да.
А если человек на творческом собеседовании на вопрос, например, «что вы хотите сделать в литературе?» ответит: «Написать бестселлер». Возьмут его?
Этот вопрос не определяющий. Скорее всего, мы такой вопрос не зададим, но даже если он каким‑то образом возникнет и человек скажет, что хочет написать бестселлер, ну, хорошо, хочет. Мы скорее поинтересуемся, а какие бестселлеры ты читал? А кого ты знаешь из современных авторов? А какие ты знаешь толстые литературные журналы? Литературные премии? Степень его вовлеченности, заинтересованности, мотивированности, зачем он сюда пришел. Не просто заявление: я хочу написать бестселлер. А что ты для этого уже сделал? Какую душевную, умственную работу для этого проделал? Это последний важный этап. До этого же все анонимно проходит. Опять же, по закону об образовании, все эти этюды, которые они пишут, зашифровывают. Мы не знаем, кто чего пишет. А тут все карты раскрыты, нам уже понятны все предварительные оценки. Мы смотрим на него. Это довольно тяжелое испытание, сидит человек шесть или семь – ректор, завкафедрой, мастера, которые набирают, – и он отвечает на наши вопросы. А мы пытаемся просто понять, наш он или не наш.
Мы не хотим брать не тех людей, судьбу им ломать, или они учиться у нас не будут. И в то же время мы заинтересованы, чтобы не пропустить людей талантливых. Почему я всегда был против ЕГЭ, и сейчас практика все больше меня убеждает, что для творческих вузов ЕГЭ лишнее. Хотя мы научились это обходить, но почему мы должны что‑то обходить? Оценки ЕГЭ зачастую ничего не говорят. Высокий балл ЕГЭ по литературе – это вообще ничего. Можно его иметь и не знать литературу. Ни классическую, ни современную, никакую. Можно иметь низкий балл по ЕГЭ, а литературу при этом знать хорошо. Просто человек так написал. Но если у него низкий балл по ЕГЭ, то хоть мы расшибемся в лепешку, хоть поставим ему самые высокие баллы за творческий конкурс, он может не дотянуть, поскольку высокий проходной балл. И наоборот, если у человека очень высокие оценки по ЕГЭ, его резать специально? Тоже неохота. Эти ножницы, которые возникают, они лишние. Будь моя воля, я бы сделал так, чтобы мы целиком отвечали за вступительные экзамены. Или, как в советское время, я помню, было время, когда сдавали четыре экзамена, а пятый был – средний балл за аттестат. В такой пропорции, чтобы предварительная оценка была не более одной пятой, вот это можно принять.
А если бы была ваша воля, вы бы вообще ЕГЭ отменили?
В гуманитарной сфере. В математике, физике, может быть, нет. Единственное, что если уж делать обязательным, то сдавать ЕГЭ по всем предметам. Чтобы не было так, что сдают только два ЕГЭ обязательных и одно по выбору. Получается, человек учил биологию, химию, а там она нужна. Почему не нужна? Все нужно. Периодическую таблицу Менделеева знать нужно. Советская система была очень разумной. Сдаешь аттестат, сдаешь все экзамены, получаешь средний балл и с этим средним баллом идешь поступать. Все очень классно.
А какое сейчас соотношение «платников» и «бесплатников» у вас в институте?
У нас платных студентов меньше, чем бесплатных. Мы сейчас набираем на первый курс порядка 90 человек – это бюджетные места. И где‑то до 30 человек – платные.
А будет тенденция к росту? Останется у нас хоть какое‑то бесплатное образование?
Пока нет ничего такого, что говорило бы о том, что бесплатное образование будет отменено. Есть ведь еще вот какая вещь, это не очень правильно, но мы не можем никого отчислять. Не то чтобы не можем, можем. Но проблема в том, что у нас есть критерий, согласно которому, на пятом курсе должно быть не меньше 90% от поступивших на первый. Мы не можем отчислить более 10%. Но мало ли какие бывают случаи. Особенно в творческом вузе. Чего только не бывает. Я вот написал книгу о Шукшине. Ну вот Шукшин, поступил во ВГИК. Как он поступил – другая история. И было 40 человек. На пятом курсе их осталось 27. Треть ушла. Даже чуть больше. И это нормальный отсев для творческого вуза. Никто не забивал себе голову, можно их отчислять или нет. Не хочешь учиться – ступай, милый.
И здесь, как мне кажется, с любой точки зрения, государственной, какой угодно, было бы очень разумно дать вузам возможность… Зачем держать? Ведь если мы отчислим за творческую несостоятельность, за что угодно, больше людей, чем 10%, то нас будут бить по шапке. С моей точки зрения, это глупость. Это негосударственный подход. Якобы это говорит – если они уходят, то мы плохо работаем. Но это бред. Дело не в том, что мы плохо работаем. Наоборот, они заставляют нас снижать планку. Вместо того, чтобы повышать планку образования и экономить государственные деньги, мы должны держать каких‑то лентяев ради того, чтобы правильные цифры стояли в отчете. Но для платных вузов это хорошо. Если мы выгоняем кого‑то из бюджета, мы можем взять на это место платного студента. Нет такой ситуации, что вуз заинтересован удерживать платных, вот, они нам денежки несут. Ничего подобного. Наоборот, как только освобождается место, мы сразу переводим студента с коммерции на бюджет.
Если вспомнить как раз Василия Макаровича Шукшина, сейчас возможна такая ситуация, что человек из села приезжает в Москву и поступает в Литинститут?
Если у него будет хорошее ЕГЭ. А я не уверен в том, что у Шукшина было бы хорошее ЕГЭ. Это тоже, кстати, причина, по которой и Ломоносов сегодня не добредет из своих Холмогор. Правда в МГУ олимпиады придумали, может быть, они позволят как‑то Ломоносову пробиться. Но у нас олимпиад нет. Поэтому я думаю, что сегодня Василий Макарович до ВГИКа не добрался бы.
Понятно, что поэты раньше формируются, а прозаики, наоборот, позже. На «Прозу» какой средний возраст поступает?
Да какой средний возраст – в основном поступают, к сожалению, сразу после школы. Подавляющее большинство.
На «Прозу» – это ведь совсем еще ни о чем.
А на «Драматургию» – о чем? А на «Режиссуру» поступают в ГИТИС или еще куда‑то?
В ГИТИСе как раз стараются, насколько я знаю, не брать молодых на режиссуру.
Жизненный опыт – вещь, быстро приходящая. Поэтому они поступают такие, зеленые, но здесь быстро взрослеют, набираются уму‑разуму. Будь моя воля, я бы вернул ту систему, которая была в советское время. Можно как угодно относиться к Союзу писателей СССР, который был тогда учредителем Литературного института. Но то, что с профессиональной, ремесленной точки зрения это были идеальные времена, когда именно Союз писателей определял, каким должен быть порядок поступления в вуз, именно тогда требование о двух годах было сформулировано. Я, конечно бы, вернулся к этой ситуации. Но сегодня это, к сожалению, невозможно.
Я знаю, что в Театральном, когда отсматривают людей, есть такая вещь, что отсматривают шизофреников. Действительно, весна – и на актерский факультет поступает некий процент нездоровых людей. Есть ли при поступлении в «Лит» какие‑то такие нестандартные вещи, которые вы отслеживаете?
Ну, во‑первых, к нам поступают летом, а не весной. Я знаю, о чем вы говорите, но у нас нет такой системы предварительного отбора. У нас бывают люди, устроенные, скажем так, более сложно с психологической точки зрения. Не очень большой процент, но есть. Я думаю, это в любом творческом вузе присутствует и иногда входит в состав нашей профессии, нашего дела.
Заканчивая тему «Лита», есть понятие «вгиковское кино». Когда смотришь работу студента или просто кино и видишь – о, этот человек окончил ВГИК. И, скорее, это определение имеет негативный оттенок. Есть ли такое понятие – «литовская поэзия», «литовская проза», когда человек читает и понимает: о, этот человек как‑то «по‑литовски» пишет.
Не знаю. Я с этим никогда не встречался. Может, и есть. Что я точно знаю, что есть литинститутское братство. Что люди, которые учились в Литинституте, окончили его, друг друга поддерживают. И, мне кажется, это хорошо. Вообще дружба между людьми, солидарность – это хорошо. И когда хорошие человеческие отношения возникают (и всю жизнь продолжаются) в нашей ревнивой, честолюбивой, иногда завистливой среде – это очень здо́рово. Литинститут оставляет какой‑то человеческий отпечаток, мне кажется. Что‑то воспитывает в людях – взаимовыручку, солидарность. А что касается стиля – все такие разные мастера, думаю, что такого нет.
Насколько я знаю, можно посещать разные мастерские?
Можно, конечно.
Ну что же, теперь я хочу перейти к вопросам о личном творчестве. Роман «Лох» я прочел за день с большим удовольствием. Герой – ваш ровесник. Живет на Автозаводской улице, на которой вы тоже жили. Понятно, что сюжетная линия не автобиографична. Но в самом герое насколько присутствует такая, внутренняя автобиографичность?
Не знаю. Я как‑то над этим не думал. Специально я ее совершенно точно не вкладывал. И в каком‑то смысле избегал. У меня сложилось внешне все более благополучно, чем у моего героя. Окончил школу, поступил в университет, окончил университет, остался на кафедре, преподавал, защитил диссертацию и т. д. Это немножко скучно, и мне хотелось написать альтернативу самому себе, скорее это антиавтобиографичная вещь. Показать человека с более прихотливой, запутанной, сложной судьбой. Школу закончил, но в школе плохо учился. В институт не поступил, пошел в армию, заболел, искал себя, мыкался – путь такого неприкаянного современника, это мне было интересно исследовать.
А его отношение к переменам, которые происходили в стране, насколько они соотносились с вашим отношением?
У меня ведь там действие заканчивается в 92‑м примерно году, может быть, в 93‑м, но до расстрела Белого дома. Там, конечно, есть то, что было пережито мной, людьми моего поколения. Я действительно помню, как искренно радовался, когда рушилась советская система, когда народ ходил, орал: «Долой КПСС», когда победили путчистов в августе 1991 года. Я до сих пор с радостью вспоминаю и ни о чем в этом смысле не жалею. Но потом, когда наступили 90‑е годы, мне очень тяжело приходилось. Мне, моей семье. И вот это ощущение – отсюда и название романа «Лох» – ощущение обмана, того, что все стало развиваться не так, как хотелось, мечталось, предполагалось, это в той или иной степени в роман вошло. И это уже отражает не альтернативное, а мое личное мироощущение.
Я очень удивился, что в романе герой очень рано начинает ко всему скептически относиться. Эта эпоха, ветер перемен. Я тоже довольно хорошо помню ту эйфорию и отца, и интеллигенции. А ваш герой очень быстро, еще даже до августовских событий, начинает…
Ну да, это есть. Разочарование моего героя я, может быть, сделал более ранним, чем оно произошло в моей жизни. По большому счету у меня уже, наверное, после августа 91‑го шок произошел, когда я почувствовал, что моя зарплата ничего не значит, кормить семью непонятно чем. А до этого была эйфория сплошная. Своего героя я сделал немножко более мудрым, более провидцем, чем это было в моей жизни. Так написалось.
У вас есть роман «Мысленный волк», тоже посвященный трагическим, судьбоносным моментам нашей истории. Насколько вообще эти годы похожи – конец 80‑х, развал одной империи, и развал той, старой, империи? Насколько вам эта параллель близка? Неслучайно же эти два романа написаны и находятся на неком острие событий?
Не знаю, случайно или неслучайно. Все эти исторические параллели – они, конечно, очень не параллельны. Думаю, различий между концом советской эпохи и концом Российской империи больше, чем сходств. Но если говорить о сходствах, думаю, и там и там присутствовала дикая жажда перемен. Дикая психологическая усталость от той жизни, которой люди жили. И даже если им сказать, что дальше будет хуже, они все равно уже не могут остановиться. Не могут не разрушить тот мир, в котором они жили. В 80‑90‑е я это пережил. Даже сейчас, чего бы и как ни говорили, развал Советского Союза – величайшая геополитическая катастрофа. Я даже готов с этим согласиться. Тем не менее, если быть откровенным, думаю, почти никто в конце 80‑х годов, вот именно тогда, не хотел сохранять Советский Союз. Даже если на референдуме проголосовали, проголосовать можно, как угодно. Но когда был август 1991 года, и путчисты призвали – они же шикарную программу выкатили народу, мы 15 соток раздадим, все сделаем – их же никто не вышел поддержать. Никто. Нигде. Против них вышли. Да, можно спорить, сколько вышло. Вышло пусть небольшое, но критическое число людей...
Они были старые, у них тряслись руки...
Да. Они были талантливые. Они проиграли все. Они уходят со сцены. Сохранить ту систему уже было невозможно. Это сейчас можно об этом жалеть, испытывать ностальгию. Но это все уже сейчас. Тогда, как мне представляется, таких чувств не было. В каком‑то смысле похожее происходило в 1917 году. Мы можем сейчас сколько угодно говорить о том, какой у нас был замечательный царь Николай, его семья, канонизировать… И это все правильно. Но тогда, вот именно тогда вот те люди, наши прабабушки, прадедушки, вот тогда почти никто не вышел на улицы для того, чтобы сохранить монархию.
Февральскую вообще приняли.
Именно Февральскую революцию, даже не Октябрьскую. Если бы народу, интеллигенции сказали, что это кончится черт знает чем, пытками, расстрелами, убийствами, войнами, репрессиями, террором, я думаю, в тот момент никого бы это не остановило. Все хотели выйти на улицу орать: «Долой царя! Свобода!» Было душно, было сперто, и ты хочешь выйти на улицу, даже если там воздух отравлен, все равно, здесь так душно, что лучше глотнуть этого отравленного воздуха. В этом, мне кажется, было похожее мироощущение. А в остальном, конечно, все абсолютно разное.
Иногда через свою маленькую болезнь можно понять какую‑то болезнь побольше, просто ее лучше прочувствовать. При этом «Мысленный волк» – это же такой вирус, который поражает сознание. Нечто такое, демоническое…
Можно и так сказать. Понимаете, почему здесь параллель между концом Российской империи и концом Советского Союза не работает. Потому что в советской империи энтузиазм кончился, я думаю, с полетом Юрия Гагарина. В каком‑то смысле полет Гагарина – пик советской империи. Когда людей никто никуда не гнал, они искренне вышли на улицы, приветствовали Гагарина, они ликовали, ощущали себя советскими людьми – мы всей страной это сделали, он от всех от нас полетел в космос, и это правда. Какой ценой это было достигнуто, сколько там пота, крови, это мы сейчас вынесем за скобки, тогда люди об этом, скорее всего, не думали, просто ликовали оттого, что мы первые в космосе. А потом началась постепенно апатия, разочарование, никто ни во что не верил. И все это вылилось в то, что «уходите прочь, долой КПСС, хотим новую жизнь». Она оказалась не такой, как хотели, но все равно: «Долой КПСС».
Для меня очень показательна история с Розановым. Розанов был величайший, умнейший человек. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, Розанов написал совершенно поразительную книжку «Война 1914 года и русское возрождение». И в ней он воспевал войну, это была апология войны. Розанов хотел выразить, что Россия находилась в состоянии какого‑то сонного безразличия, затхлости, апатии, и война ее встряхнула, выявила русских людей в единодушном порыве на улице, и они все поднялись на защиту своего отечества, все были готовы уничтожить Германию, освободить проливы, водрузить крест над Святой Софией в Константинополе. Это был искренний энтузиазм. Этих людей никто не сгонял, это было умонастроение, Россия ликующе входила в Первую мировую войну. Пусть не вся Россия, но очень большая часть населения. И Розанов вместе с ними, он объяснял, в чем ликование, что наконец слова «отечество», «православие», «царь» стали наполняться смыслом. Что мы жили непонятно как, а война оправдала нашу жизнь. Со всем талантом Розанов об этом пишет.
Проходит три года, и в 1917 году Розанов пишет одну из самых страшных книг, которые существуют на русском языке, «Апокалипсис нашего времени». Эта книга начинается словами: «Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три». Путь, который Россия проделала от ликования, когда простодушные, искренние русские люди громили Германское посольство, и Розанов оправдывал разгром Германского посольства, до вот этого «Русь слиняла» – это очень короткий исторический промежуток времени. Но это был маятник. Страна метнулась от всплеска энтузиазма к страшному отчаянию. И мы помним, как Бунин писал в «Окаянных днях»: «Все ждут прихода немцев. Все ждут немцев, как освободителей от большевиков». Это уже чуть позже, это 1918 год. Я не сомневаюсь, что те люди, которые громили Германское посольство в 1914 году, в 1918‑м ждали немцев, как освободителей. Это меня поразило, и в романе я пытался это сформулировать и показать. Вот что такое для меня «Мысленный волк», вот это метание, швыряние от одной крайности в другую. Все‑таки в конце 80‑х ментально немного происходило по‑другому. Такого маятника не было. Условно говоря, между 1961‑м и 1991 годом все‑таки 30 лет прошло. А между 1914‑м и 1928‑м – всего четыре. И эта страшна война, история не терпит вот этого – вступать не вступать в войну.
Сейчас бессмысленно говорить, но то, что война перекорежила русские мозги… Розанов ведь назвал книжку «Война 1914 года и русское возрождение», здесь самое интересное даже не русское возрождение, самое интересное – война 1914 года. Он, когда ее писал, был уверен, что это будет, как война 1812 года с Наполеоном, за полгода разобьем и все, дальше будет вечный мир и справедливость. Никто не подозревал, как это будет долго, как мучительно, Россия не была к этому готова. И это опьянение, эта иллюзия, это легкомыслие, с которым Россия тогда пустилась в войну, и страшное отрезвление, которое наступило после революции, и все, что последовало после нее, вот это для меня «Мысленный волк». А в 1991‑м было что‑то похожее. Мы, конечно, тоже думали, сейчас коммунистов прогоним и все будет хорошо. Нам бы лишь бы коммунистов прогнать. И наши тогдашние вожди, чего они хотели – лишь бы не вернулись коммунисты. Их в каком‑то смысле можно понять. Но мы получили сложную кашу, которую до сих пор расхлебываем.
Одна из параллелей, кстати, – все эти эсхатологические мысли, апокалипсис. И у вас в романе «Лох» тоже… Я тоже помню, что называли в 90‑е годы то один срок, то другой. В России, да и не только в России, в переломные моменты начинают появляться мысли об апокалипсисе, о конце времен и т. д. Давайте расскажем, что само название – «Мысленный волк» – идет от молитвы Иоанна Златоуста, да?
Да. Есть такая молитва, которая меня в свое время поразила. Там такие слова: «Да не на мнозе удаляяйся общения Твоего, от мысленного волка звероуловлен буду». Что в переводе на русский значит: если я немного удалюсь от Тебя, – обращается молящийся к господу, – то меня схватит мысленный волк. Этот синтаксис – от мысленного волка звероуловлен буду – меня очень поражал. С чисто стилистической точки зрения – надо же, так слова стоят, такой образ возникает мысленного волка. И так получилось, что это стало названием моего романа.
Да, конечно. Естественно, нужно иметь аттестат. Нужны, к сожалению (будь моя воля, я бы это отменил), результаты двух экзаменов ЕГЭ – русский язык и литература. И помимо этого есть творческий конкурс - это работа, которую вы присылаете. И дальше, если вы допущены к экзаменам… мы отсеиваем совсем уж неудачные, откровенно слабые работы. Если вы получаете двойку, вас не допускают. Но, в принципе, мы все равно стараемся сначала на человека посмотреть. Абитуриенты, когда к нам приезжают, предъявляют два экзамена ЕГЭ, пишут творческий этюд – это что‑то вроде сочинения, но не на литературоведческую, не на критическую тему, вроде «Образа лишнего человека», а на какие- то интересные темы. Например, «Дорога к дому». Или «Кошка, которая бежит по моей улице». Или «Каким мне видится будущее». Обычно дается на выбор пять‑шесть тем, и люди должны написать эссе.
Это все уже в аудитории происходит? Сколько времени дается?
Да, в аудитории. Четыре часа. Они пишут эссе, а дальше – творческое собеседование. Из этих оценок складывается общий балл. Конкурс у нас – шесть‑семь человек на место.
А раньше сколько был, в 90‑е?
В 90‑е не могу сказать точно, но то, что в 70‑80‑е доходило до 100 человек на место – это факт. Но тогда и мест было меньше. У нас есть отделение литературного творчества, есть отделение художественного перевода. Литературное творчество – это «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Публицистика», «Детская литература». Художественный перевод есть с основных европейских языков, и то, что я говорил в самом начале – мы добавили языки народов РФ.
А на «Детскую литературу» много поступает? Есть мнение, что она сейчас не очень…
Поступают. Не могу сказать, что очень много, но поступают. У нас семинар детской литературы, да.
А если человек на творческом собеседовании на вопрос, например, «что вы хотите сделать в литературе?» ответит: «Написать бестселлер». Возьмут его?
Этот вопрос не определяющий. Скорее всего, мы такой вопрос не зададим, но даже если он каким‑то образом возникнет и человек скажет, что хочет написать бестселлер, ну, хорошо, хочет. Мы скорее поинтересуемся, а какие бестселлеры ты читал? А кого ты знаешь из современных авторов? А какие ты знаешь толстые литературные журналы? Литературные премии? Степень его вовлеченности, заинтересованности, мотивированности, зачем он сюда пришел. Не просто заявление: я хочу написать бестселлер. А что ты для этого уже сделал? Какую душевную, умственную работу для этого проделал? Это последний важный этап. До этого же все анонимно проходит. Опять же, по закону об образовании, все эти этюды, которые они пишут, зашифровывают. Мы не знаем, кто чего пишет. А тут все карты раскрыты, нам уже понятны все предварительные оценки. Мы смотрим на него. Это довольно тяжелое испытание, сидит человек шесть или семь – ректор, завкафедрой, мастера, которые набирают, – и он отвечает на наши вопросы. А мы пытаемся просто понять, наш он или не наш.
Мы не хотим брать не тех людей, судьбу им ломать, или они учиться у нас не будут. И в то же время мы заинтересованы, чтобы не пропустить людей талантливых. Почему я всегда был против ЕГЭ, и сейчас практика все больше меня убеждает, что для творческих вузов ЕГЭ лишнее. Хотя мы научились это обходить, но почему мы должны что‑то обходить? Оценки ЕГЭ зачастую ничего не говорят. Высокий балл ЕГЭ по литературе – это вообще ничего. Можно его иметь и не знать литературу. Ни классическую, ни современную, никакую. Можно иметь низкий балл по ЕГЭ, а литературу при этом знать хорошо. Просто человек так написал. Но если у него низкий балл по ЕГЭ, то хоть мы расшибемся в лепешку, хоть поставим ему самые высокие баллы за творческий конкурс, он может не дотянуть, поскольку высокий проходной балл. И наоборот, если у человека очень высокие оценки по ЕГЭ, его резать специально? Тоже неохота. Эти ножницы, которые возникают, они лишние. Будь моя воля, я бы сделал так, чтобы мы целиком отвечали за вступительные экзамены. Или, как в советское время, я помню, было время, когда сдавали четыре экзамена, а пятый был – средний балл за аттестат. В такой пропорции, чтобы предварительная оценка была не более одной пятой, вот это можно принять.
А если бы была ваша воля, вы бы вообще ЕГЭ отменили?
В гуманитарной сфере. В математике, физике, может быть, нет. Единственное, что если уж делать обязательным, то сдавать ЕГЭ по всем предметам. Чтобы не было так, что сдают только два ЕГЭ обязательных и одно по выбору. Получается, человек учил биологию, химию, а там она нужна. Почему не нужна? Все нужно. Периодическую таблицу Менделеева знать нужно. Советская система была очень разумной. Сдаешь аттестат, сдаешь все экзамены, получаешь средний балл и с этим средним баллом идешь поступать. Все очень классно.
А какое сейчас соотношение «платников» и «бесплатников» у вас в институте?
У нас платных студентов меньше, чем бесплатных. Мы сейчас набираем на первый курс порядка 90 человек – это бюджетные места. И где‑то до 30 человек – платные.
А будет тенденция к росту? Останется у нас хоть какое‑то бесплатное образование?
Пока нет ничего такого, что говорило бы о том, что бесплатное образование будет отменено. Есть ведь еще вот какая вещь, это не очень правильно, но мы не можем никого отчислять. Не то чтобы не можем, можем. Но проблема в том, что у нас есть критерий, согласно которому, на пятом курсе должно быть не меньше 90% от поступивших на первый. Мы не можем отчислить более 10%. Но мало ли какие бывают случаи. Особенно в творческом вузе. Чего только не бывает. Я вот написал книгу о Шукшине. Ну вот Шукшин, поступил во ВГИК. Как он поступил – другая история. И было 40 человек. На пятом курсе их осталось 27. Треть ушла. Даже чуть больше. И это нормальный отсев для творческого вуза. Никто не забивал себе голову, можно их отчислять или нет. Не хочешь учиться – ступай, милый.
И здесь, как мне кажется, с любой точки зрения, государственной, какой угодно, было бы очень разумно дать вузам возможность… Зачем держать? Ведь если мы отчислим за творческую несостоятельность, за что угодно, больше людей, чем 10%, то нас будут бить по шапке. С моей точки зрения, это глупость. Это негосударственный подход. Якобы это говорит – если они уходят, то мы плохо работаем. Но это бред. Дело не в том, что мы плохо работаем. Наоборот, они заставляют нас снижать планку. Вместо того, чтобы повышать планку образования и экономить государственные деньги, мы должны держать каких‑то лентяев ради того, чтобы правильные цифры стояли в отчете. Но для платных вузов это хорошо. Если мы выгоняем кого‑то из бюджета, мы можем взять на это место платного студента. Нет такой ситуации, что вуз заинтересован удерживать платных, вот, они нам денежки несут. Ничего подобного. Наоборот, как только освобождается место, мы сразу переводим студента с коммерции на бюджет.
Если вспомнить как раз Василия Макаровича Шукшина, сейчас возможна такая ситуация, что человек из села приезжает в Москву и поступает в Литинститут?
Если у него будет хорошее ЕГЭ. А я не уверен в том, что у Шукшина было бы хорошее ЕГЭ. Это тоже, кстати, причина, по которой и Ломоносов сегодня не добредет из своих Холмогор. Правда в МГУ олимпиады придумали, может быть, они позволят как‑то Ломоносову пробиться. Но у нас олимпиад нет. Поэтому я думаю, что сегодня Василий Макарович до ВГИКа не добрался бы.
Понятно, что поэты раньше формируются, а прозаики, наоборот, позже. На «Прозу» какой средний возраст поступает?
Да какой средний возраст – в основном поступают, к сожалению, сразу после школы. Подавляющее большинство.
На «Прозу» – это ведь совсем еще ни о чем.
А на «Драматургию» – о чем? А на «Режиссуру» поступают в ГИТИС или еще куда‑то?
В ГИТИСе как раз стараются, насколько я знаю, не брать молодых на режиссуру.
Жизненный опыт – вещь, быстро приходящая. Поэтому они поступают такие, зеленые, но здесь быстро взрослеют, набираются уму‑разуму. Будь моя воля, я бы вернул ту систему, которая была в советское время. Можно как угодно относиться к Союзу писателей СССР, который был тогда учредителем Литературного института. Но то, что с профессиональной, ремесленной точки зрения это были идеальные времена, когда именно Союз писателей определял, каким должен быть порядок поступления в вуз, именно тогда требование о двух годах было сформулировано. Я, конечно бы, вернулся к этой ситуации. Но сегодня это, к сожалению, невозможно.
Я знаю, что в Театральном, когда отсматривают людей, есть такая вещь, что отсматривают шизофреников. Действительно, весна – и на актерский факультет поступает некий процент нездоровых людей. Есть ли при поступлении в «Лит» какие‑то такие нестандартные вещи, которые вы отслеживаете?
Ну, во‑первых, к нам поступают летом, а не весной. Я знаю, о чем вы говорите, но у нас нет такой системы предварительного отбора. У нас бывают люди, устроенные, скажем так, более сложно с психологической точки зрения. Не очень большой процент, но есть. Я думаю, это в любом творческом вузе присутствует и иногда входит в состав нашей профессии, нашего дела.
Заканчивая тему «Лита», есть понятие «вгиковское кино». Когда смотришь работу студента или просто кино и видишь – о, этот человек окончил ВГИК. И, скорее, это определение имеет негативный оттенок. Есть ли такое понятие – «литовская поэзия», «литовская проза», когда человек читает и понимает: о, этот человек как‑то «по‑литовски» пишет.
Не знаю. Я с этим никогда не встречался. Может, и есть. Что я точно знаю, что есть литинститутское братство. Что люди, которые учились в Литинституте, окончили его, друг друга поддерживают. И, мне кажется, это хорошо. Вообще дружба между людьми, солидарность – это хорошо. И когда хорошие человеческие отношения возникают (и всю жизнь продолжаются) в нашей ревнивой, честолюбивой, иногда завистливой среде – это очень здо́рово. Литинститут оставляет какой‑то человеческий отпечаток, мне кажется. Что‑то воспитывает в людях – взаимовыручку, солидарность. А что касается стиля – все такие разные мастера, думаю, что такого нет.
Насколько я знаю, можно посещать разные мастерские?
Можно, конечно.
Ну что же, теперь я хочу перейти к вопросам о личном творчестве. Роман «Лох» я прочел за день с большим удовольствием. Герой – ваш ровесник. Живет на Автозаводской улице, на которой вы тоже жили. Понятно, что сюжетная линия не автобиографична. Но в самом герое насколько присутствует такая, внутренняя автобиографичность?
Не знаю. Я как‑то над этим не думал. Специально я ее совершенно точно не вкладывал. И в каком‑то смысле избегал. У меня сложилось внешне все более благополучно, чем у моего героя. Окончил школу, поступил в университет, окончил университет, остался на кафедре, преподавал, защитил диссертацию и т. д. Это немножко скучно, и мне хотелось написать альтернативу самому себе, скорее это антиавтобиографичная вещь. Показать человека с более прихотливой, запутанной, сложной судьбой. Школу закончил, но в школе плохо учился. В институт не поступил, пошел в армию, заболел, искал себя, мыкался – путь такого неприкаянного современника, это мне было интересно исследовать.
А его отношение к переменам, которые происходили в стране, насколько они соотносились с вашим отношением?
У меня ведь там действие заканчивается в 92‑м примерно году, может быть, в 93‑м, но до расстрела Белого дома. Там, конечно, есть то, что было пережито мной, людьми моего поколения. Я действительно помню, как искренно радовался, когда рушилась советская система, когда народ ходил, орал: «Долой КПСС», когда победили путчистов в августе 1991 года. Я до сих пор с радостью вспоминаю и ни о чем в этом смысле не жалею. Но потом, когда наступили 90‑е годы, мне очень тяжело приходилось. Мне, моей семье. И вот это ощущение – отсюда и название романа «Лох» – ощущение обмана, того, что все стало развиваться не так, как хотелось, мечталось, предполагалось, это в той или иной степени в роман вошло. И это уже отражает не альтернативное, а мое личное мироощущение.
Я очень удивился, что в романе герой очень рано начинает ко всему скептически относиться. Эта эпоха, ветер перемен. Я тоже довольно хорошо помню ту эйфорию и отца, и интеллигенции. А ваш герой очень быстро, еще даже до августовских событий, начинает…
Ну да, это есть. Разочарование моего героя я, может быть, сделал более ранним, чем оно произошло в моей жизни. По большому счету у меня уже, наверное, после августа 91‑го шок произошел, когда я почувствовал, что моя зарплата ничего не значит, кормить семью непонятно чем. А до этого была эйфория сплошная. Своего героя я сделал немножко более мудрым, более провидцем, чем это было в моей жизни. Так написалось.
У вас есть роман «Мысленный волк», тоже посвященный трагическим, судьбоносным моментам нашей истории. Насколько вообще эти годы похожи – конец 80‑х, развал одной империи, и развал той, старой, империи? Насколько вам эта параллель близка? Неслучайно же эти два романа написаны и находятся на неком острие событий?
Не знаю, случайно или неслучайно. Все эти исторические параллели – они, конечно, очень не параллельны. Думаю, различий между концом советской эпохи и концом Российской империи больше, чем сходств. Но если говорить о сходствах, думаю, и там и там присутствовала дикая жажда перемен. Дикая психологическая усталость от той жизни, которой люди жили. И даже если им сказать, что дальше будет хуже, они все равно уже не могут остановиться. Не могут не разрушить тот мир, в котором они жили. В 80‑90‑е я это пережил. Даже сейчас, чего бы и как ни говорили, развал Советского Союза – величайшая геополитическая катастрофа. Я даже готов с этим согласиться. Тем не менее, если быть откровенным, думаю, почти никто в конце 80‑х годов, вот именно тогда, не хотел сохранять Советский Союз. Даже если на референдуме проголосовали, проголосовать можно, как угодно. Но когда был август 1991 года, и путчисты призвали – они же шикарную программу выкатили народу, мы 15 соток раздадим, все сделаем – их же никто не вышел поддержать. Никто. Нигде. Против них вышли. Да, можно спорить, сколько вышло. Вышло пусть небольшое, но критическое число людей...
Они были старые, у них тряслись руки...
Да. Они были талантливые. Они проиграли все. Они уходят со сцены. Сохранить ту систему уже было невозможно. Это сейчас можно об этом жалеть, испытывать ностальгию. Но это все уже сейчас. Тогда, как мне представляется, таких чувств не было. В каком‑то смысле похожее происходило в 1917 году. Мы можем сейчас сколько угодно говорить о том, какой у нас был замечательный царь Николай, его семья, канонизировать… И это все правильно. Но тогда, вот именно тогда вот те люди, наши прабабушки, прадедушки, вот тогда почти никто не вышел на улицы для того, чтобы сохранить монархию.
Февральскую вообще приняли.
Именно Февральскую революцию, даже не Октябрьскую. Если бы народу, интеллигенции сказали, что это кончится черт знает чем, пытками, расстрелами, убийствами, войнами, репрессиями, террором, я думаю, в тот момент никого бы это не остановило. Все хотели выйти на улицу орать: «Долой царя! Свобода!» Было душно, было сперто, и ты хочешь выйти на улицу, даже если там воздух отравлен, все равно, здесь так душно, что лучше глотнуть этого отравленного воздуха. В этом, мне кажется, было похожее мироощущение. А в остальном, конечно, все абсолютно разное.
Иногда через свою маленькую болезнь можно понять какую‑то болезнь побольше, просто ее лучше прочувствовать. При этом «Мысленный волк» – это же такой вирус, который поражает сознание. Нечто такое, демоническое…
Можно и так сказать. Понимаете, почему здесь параллель между концом Российской империи и концом Советского Союза не работает. Потому что в советской империи энтузиазм кончился, я думаю, с полетом Юрия Гагарина. В каком‑то смысле полет Гагарина – пик советской империи. Когда людей никто никуда не гнал, они искренне вышли на улицы, приветствовали Гагарина, они ликовали, ощущали себя советскими людьми – мы всей страной это сделали, он от всех от нас полетел в космос, и это правда. Какой ценой это было достигнуто, сколько там пота, крови, это мы сейчас вынесем за скобки, тогда люди об этом, скорее всего, не думали, просто ликовали оттого, что мы первые в космосе. А потом началась постепенно апатия, разочарование, никто ни во что не верил. И все это вылилось в то, что «уходите прочь, долой КПСС, хотим новую жизнь». Она оказалась не такой, как хотели, но все равно: «Долой КПСС».
Для меня очень показательна история с Розановым. Розанов был величайший, умнейший человек. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, Розанов написал совершенно поразительную книжку «Война 1914 года и русское возрождение». И в ней он воспевал войну, это была апология войны. Розанов хотел выразить, что Россия находилась в состоянии какого‑то сонного безразличия, затхлости, апатии, и война ее встряхнула, выявила русских людей в единодушном порыве на улице, и они все поднялись на защиту своего отечества, все были готовы уничтожить Германию, освободить проливы, водрузить крест над Святой Софией в Константинополе. Это был искренний энтузиазм. Этих людей никто не сгонял, это было умонастроение, Россия ликующе входила в Первую мировую войну. Пусть не вся Россия, но очень большая часть населения. И Розанов вместе с ними, он объяснял, в чем ликование, что наконец слова «отечество», «православие», «царь» стали наполняться смыслом. Что мы жили непонятно как, а война оправдала нашу жизнь. Со всем талантом Розанов об этом пишет.
Проходит три года, и в 1917 году Розанов пишет одну из самых страшных книг, которые существуют на русском языке, «Апокалипсис нашего времени». Эта книга начинается словами: «Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три». Путь, который Россия проделала от ликования, когда простодушные, искренние русские люди громили Германское посольство, и Розанов оправдывал разгром Германского посольства, до вот этого «Русь слиняла» – это очень короткий исторический промежуток времени. Но это был маятник. Страна метнулась от всплеска энтузиазма к страшному отчаянию. И мы помним, как Бунин писал в «Окаянных днях»: «Все ждут прихода немцев. Все ждут немцев, как освободителей от большевиков». Это уже чуть позже, это 1918 год. Я не сомневаюсь, что те люди, которые громили Германское посольство в 1914 году, в 1918‑м ждали немцев, как освободителей. Это меня поразило, и в романе я пытался это сформулировать и показать. Вот что такое для меня «Мысленный волк», вот это метание, швыряние от одной крайности в другую. Все‑таки в конце 80‑х ментально немного происходило по‑другому. Такого маятника не было. Условно говоря, между 1961‑м и 1991 годом все‑таки 30 лет прошло. А между 1914‑м и 1928‑м – всего четыре. И эта страшна война, история не терпит вот этого – вступать не вступать в войну.
Сейчас бессмысленно говорить, но то, что война перекорежила русские мозги… Розанов ведь назвал книжку «Война 1914 года и русское возрождение», здесь самое интересное даже не русское возрождение, самое интересное – война 1914 года. Он, когда ее писал, был уверен, что это будет, как война 1812 года с Наполеоном, за полгода разобьем и все, дальше будет вечный мир и справедливость. Никто не подозревал, как это будет долго, как мучительно, Россия не была к этому готова. И это опьянение, эта иллюзия, это легкомыслие, с которым Россия тогда пустилась в войну, и страшное отрезвление, которое наступило после революции, и все, что последовало после нее, вот это для меня «Мысленный волк». А в 1991‑м было что‑то похожее. Мы, конечно, тоже думали, сейчас коммунистов прогоним и все будет хорошо. Нам бы лишь бы коммунистов прогнать. И наши тогдашние вожди, чего они хотели – лишь бы не вернулись коммунисты. Их в каком‑то смысле можно понять. Но мы получили сложную кашу, которую до сих пор расхлебываем.
Одна из параллелей, кстати, – все эти эсхатологические мысли, апокалипсис. И у вас в романе «Лох» тоже… Я тоже помню, что называли в 90‑е годы то один срок, то другой. В России, да и не только в России, в переломные моменты начинают появляться мысли об апокалипсисе, о конце времен и т. д. Давайте расскажем, что само название – «Мысленный волк» – идет от молитвы Иоанна Златоуста, да?
Да. Есть такая молитва, которая меня в свое время поразила. Там такие слова: «Да не на мнозе удаляяйся общения Твоего, от мысленного волка звероуловлен буду». Что в переводе на русский значит: если я немного удалюсь от Тебя, – обращается молящийся к господу, – то меня схватит мысленный волк. Этот синтаксис – от мысленного волка звероуловлен буду – меня очень поражал. С чисто стилистической точки зрения – надо же, так слова стоят, такой образ возникает мысленного волка. И так получилось, что это стало названием моего романа.
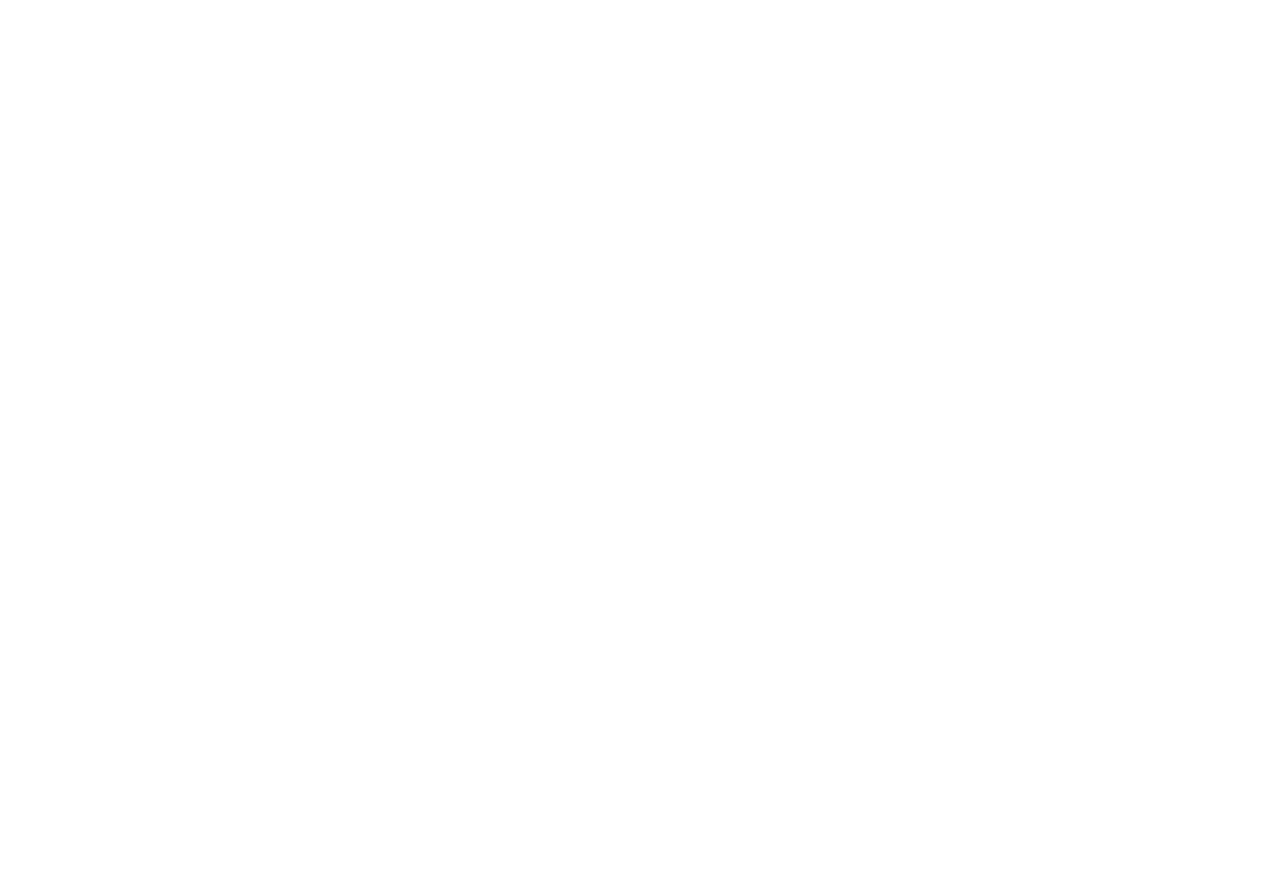
Это еще в псалмах заметно, когда читаешь русский – ничего, а церковнославянский – насколько там все глубже…
У вас написано семь книг в серии «ЖЗЛ». Замечательные там герои. Изначально у вас была диссертация по Пришвину. Поэтому издательство «Молодая гвардия» попросило вас написать книгу, уже знали вас как автора…
Нет, было по‑другому. Незадолго до этого, в 2002 году, в издательстве «Молодая гвардия» у меня вышла книжка прозы. А параллельно с этим я писал диссертацию о Пришвине, и надо было где‑то издать монографию. И я им предложил. Это был мой личный, прагматичный, эгоистичный интерес, мне надо было напечатать книжку. А тут можно было напечатать ее даже не за свои деньги, плюс они заплатили гонорар. И так получилось, что я стал автором молодогвардейской серии, благодаря этому обстоятельству.
Вышла книжка, я защитился, все было хорошо, а потом у меня возникла мысль написать что‑то еще для них, уже вне всяких диссертаций, уже никому ничего не должен. Говорю: «Давайте напишу вам Паустовского». Они: «Ну, это как‑то банально после Пришвина, давайте нам Грина или Алексея Толстого». Я задумался, я был как‑то равнодушен, не то чтобы равнодушен, но спокоен – ну, Грин, читал я «Алые паруса» когда‑то. Ну, Толстой, «Буратино», «Петр Первый», ну, «Хождение по мукам», ну, да. Но тут появился такой момент, пожалуй, именно в этот момент я стал профессиональным писателем. Никакого вдохновения тут уже не надо. Вот тебе дали заказ, с тобой заключили договор, выплатили аванс, вот тебе Грин, вот тебе Алексей Толстой – иди и пиши.
И есть срок?
Есть срок, и ты чувствуешь, что ты что‑то должен. Когда пишешь роман, ты никому ничего не должен. Хочешь – год пиши, хочешь – десять лет. Ты – свободный художник в свободном полете. А здесь ты подписался. Конечно, можно отодвинуть, но я как‑то по‑другому к этому относился. Есть – сиди работай. И так получилось, что у меня есть целая коллекция таких книг, семь штук. И это было очень интересно. Они все очень разные. И можно долго о каждом писателе говорить. Но все они, за исключением Шукшина, моя последняя книжка, все они современники, так или иначе.
Мне нужна была эта эпоха. Это люди, которые родились в XIX веке, воспитывались в одной системе ценностей, входили в тогдашнюю литературу дореволюционную, как‑то в этой литературе Серебряного века существовали. И потом их всех бросило в революцию, в советскую жизнь, все переломилось, переменилось, и они должны были как‑то выплывать, спасаться, выстраивать отношения с новой властью, принимать, не принимать, бороться, не бороться, прогибаться, идти на компромисс или нет. Как это происходило у каждого из них, для меня это оказалось жутко интересной сюжетной линией, прямо как приключенческий роман.
В каком‑то смысле это можно рассматривать как серию?
Да, в каком‑то смысле она и получилась серией, как люди перешли этот перевал, этот разлом в русской истории.
Вы очень интересно рассуждали, когда вы пишете, герой вам помогает, мешает или он равнодушен. В частности, Алексей Николаевич, ваш тезка двойной, вам активно помогал.
Да. Думаю, что помогал. Уж больно интересно он открылся сразу. Все, что я знал до этого об Алексее Толстом… Ну, циник, ну, приспособленец, мало ли циников и приспособленцев было в русской советской литературе. Но, начиная с момента его рождения, с тайны его происхождения, его фамилии, кто был его настоящий отец, кто мнимый, это был материал, который просился в роман. Вроде бы это вещи, специалистам известные, но их можно было разложить гораздо более интересно в роман. Потом, как это все отражалось в мемуаристике. Ведь что очень важно – когда ты пишешь, ты пользуешься документальными источниками. Скажем, об Андрее Платонове мало воспоминаний. Очень мало. Он прожил незаметную жизнь, был далеко от литературного центра. В этом была его абсолютно сознательна стратегия. Он не любил писателей, не любил литературную жизнь. Он любил совсем другие вещи и поэтому был где‑то в стороне. А Толстой любил все это, любил быть в центре. И поэтому о нем существует куча источников, куча мемуаров, написанных очень ярко, интересно. Самые главные, конечно, бунинские мемуары «Третий Толстой». Но и много других. И Степун писал, и в дневниках Блока есть, и у Чуковского есть. Кто только его не вспоминал. Такой «вкусный» материал просился, чтобы его обработали. И я создал такой портрет и чувствовал, что Толстой помогает, что Толстому нравится, как я про него пишу. Я не сюсюкую, не умиляюсь, но в то же время и не мажу его черной краской, что ты подлец, сталинист недобитый, не так же все. Да, он любил Сталина, ну и что? Много кто любил Сталина. И его отношение к эмиграции – почему ушел, как жил в эмиграции, чего вернулся в советскую Россию – это все оказалось дико увлекательно.
А ваше отношение к нему во время работы как‑то поменялось?
Поменялось. Изначально он мне не нравился. Как человек, который кричал: «Долой КПСС!», я сначала относился к Толстому негативно. Потому что подлец, предал белое движение, предал русскую эмиграцию, стал здесь одним из столпов социалистического реализма, советской литературы, советского строя. А потом, когда я стал изучать мотивы его поведения, почему он так делал, что им двигало, то мое отношение и к нему, и, надо сказать, и к советскому времени стало усложняться, меняться. Благодаря Платонову тоже. Я стал понимать, что с советской историей все не так просто, не так однозначно. Нас учили, в советское время один был крен, в конце 80‑90‑х – другой крен. На самом деле все было не так просто. И через человеческую личность, через ее судьбу ты начинаешь это понимать. Начинаешь чувствовать как бы вещество времени. Для меня эти биографии были машиной времени. Через этих людей начинаешь понимать что‑то очень сущностное, важное про историю собственной страны.
В каком‑то смысле в Шукшине все это соединилось. Вы говорите, что в его биографии соединилось все самое плохое и самое хорошее и сделало этого человека.
Да, в каком‑то смысле Шукшин стал символом советской эпохи. Это ведь как Гагарин. Гагарин же – это взлет. Или, может быть, Королев даже более яркий пример, потому что с одной стороны это ГУЛАГ, с другой стороны – это Байконур. Две крайние точки, к сожалению, трагически связанные. Я не знаю точно, строили ли Байконур заключенные, но, понятное дело, многие наши объекты, и атомные, и прочие, строились именно заключенными, это факт. Так вот в Шукшине, хотя он не имел никакого отношения ни к ГУЛАГу, ни к космосу, в нем все это связалось. Потому что он сын расстрелянного русского мужика, который похоронен на Новодевичьем кладбище среди российской элиты. Путь, который он проделал с самого советского низа к самому советскому верху за 45 лет жизни – это совершенно потрясающая история. Как ему это удалось? Что за этим стояло? Какой была его личная история поведения? Сколько изворотливости на самом деле, сколько хитрости, сколько упорства, воли было в этом мужике…
Русская мужицкая хитрость…
Да не только мужицкая. Там было много и интеллигентской хитрости, и рабочей, и какой угодно. Мне еще потому Шукшин оказался очень интересен, я прочитал где‑то у Валентина Распутина слова, что если бы потребовалось на каком‑то всемирном сходе явить портрет россиянина на примере только одного человека, то таким человеком стал бы Шукшин. Я когда прочитал, подумал, ну, просто высокая оценка. Ну почему Шукшин? Почему не тот же Распутин, почему не Абрамов, не Свиридов, не Глазунов, не Калашников. Кого угодно назовите из великих русских людей XX века. Почему Шукшин? Но именно Шукшин. Потому что крестьянин, который стал рабочим, который стал интеллигентом. Актер, который стал режиссером, стал писателем. То есть он представляет собой тип сложного человека в самом буквальном смысле этого слова. Сложный – то есть сложенный. Он вобрал в себя всю советскую жизнь, все советские страты, классы, как никто другой. В нем это просто сгустилось, сконцентрировалось. Это очень противоречивое соединение русского, советского, но действительное фактическое соединение, вот это Шукшин. И этим он очень интересен.
И как он пробивался, этот простой вроде бы Вася Шукшин. Да ничего подобного – хитрый, расчетливый, умный, честный, искренний, страдающий, благородный, лукавый – какой угодно, масса самых разных определений, который к нему подойдут. Но всегда твердо нацеленный на успех. Вот как рыба на нерест идет, так Шукшин двигался к успеху, и следить за этим, смотреть, как он этого добивался, как он пробивался в высокие кабинеты, как он, ненавидя коммунистов, тем не менее был членом КПСС и ходил на Старую площадь, ходил в ЦК просил деньги, чтобы снять антисоветский фильм. Жутко интересно!
Шукшин – писатель, актер, режиссер, что сейчас в нем важнее для нашего времени?
Я все‑таки за писателя. Он ведь до конца не очень прочитан. Хотя сейчас в театре Наций Евгений Миронов с Чулпан Хаматовой, и с другими актерами, конечно, сделали классный совершенно спектакль «Рассказы Шукшина». Хотя мне кажется, там немножко облегченный Шукшин, немножко капустник по Шукшину, он сложнее и трагичней. Но все равно публика ходит, это коммерческий спектакль. Он как рассказчик, мне кажется, еще до конца не прочитан. Большинство из нас знает у Шукшина какие‑то хрестоматийные вещи. А у него есть куча не очень известных, но жутко интересных рассказов, особенно написанных в конце жизни. В конце жизни его манера письма становилась другой. К тем же «Чудикам» он относился гораздо сложнее, вообще иначе относился, чем в 60‑е годы. Как писатель он погиб на взлете. Он явно эволюционировал, он двигался, развивался.
Для писателя, прозаика что такое такой возраст…
Конечно, в неполных 45. Вот что касается его фильмов, может быть, они действительно устарели. Кроме разве что «Калины красной. Я, знаете, о чем подумал, вот смотрел я фильм «Девчата», его периодически показывают, как ностальгическую советскую классику, и многие смотрят, ну а чего, бесхитростный фильм. А Шукшина не показывают. Ведь не показывают, например, «Живет такой парень». Я не помню, кто из них раньше снят, но очевидно, что это фильмы‑антиподы. «Девчата» – искусственный фильм, снят в декорациях, там нет натуральных съемок, хотя действие происходит где‑то на севере, лесоповал, но понятно, что это снято в киностудии, это искусственно. Шукшин искусственность ненавидел. Шукшин снимал фильм «Живет такой парень» у себя на Алтае, в естественных пейзажах, и для него это было важно – дать натуральный продукт.
Но сейчас, когда прошло 50 лет, центральные каналы Шукшина не показывают. По каналу «Культура» может быть когда‑нибудь покажут какой‑нибудь фильм. Но сказать, что шукшинские фильмы стали такой же классикой, как, например, «Иван Васильевич меняет профессию», как «Ирония судьбы», как какой‑то фильмофонд советский, почему‑то Шукшин из этого фонда выпал. И мне жаль, что это так. Но там тоже не дураки сидят, когда отбирают. И эти люди, которые не хотят, чтобы народ кнопки переключал, они почему‑то показывают «Девчат», а не «Живет такой парень». Вот такая история.
Но в театре Шукшин идет, это классно. Он ведь сам тоже двигался от кино к театру. И, возможно, будущее Шукшина – его постижение через театр. Может быть, возвращение к его книгам. Может быть, еще какие‑то фильмы будут сниматься по его рассказам и окажутся созвучными нынешним временам. Там можно много интересного, созвучного найти, поэтому я думаю, у Шукшина серьезное будущее.
А кто‑нибудь сможет снять о Степане Разине фильм? Там сценарий‑то есть?
Сценарий есть. Хороший вопрос, но это надо режиссеров спрашивать. Он же хотел снять очень жестокий, страшный, кровавый фильм. Фильм о вечной борьбе русского народа против русского государства. Шукшин – антигосударственник. Принципиальный. Анархист. Стихийный человек. И власть его боялась абсолютно справедливо. И он ведь сделал все, чтобы снять этот фильм. Все. И тогда его нашли убитым, мертвым нашли. Если бы я писал роман о Шукшине – конечно, убитым. Все способы перепробовали, чтобы не дать ему снять этот фильм. А когда поняли, что остановить его нельзя, его убили. Скучные факты говорят, что, скорее всего, это была естественная смерть. Но метафизически это, конечно, было убийство. Его просто надо было остановить. Но это не потому, что советская власть. Это любая власть, это любое государство. Шукшин был опасен. Очень хорошо сказал писатель Олег Павлов: «Он был бы опасен и для царской власти, и для советской, и по большому счету для любой другой, включая нынешнюю». Поэтому кто и как будет финансировать фильм Шукшина, я не знаю.
Возвращаясь к остальным вашим героям. Толстой помогал, а как остальные себя вели? С Булгаковым, говорят, постоянно связаны какие‑то мистические истории. Было что‑то?
Мне кажется, люди, которые говорят про мистические истории, связанные с Булгаковым, набивают себе цену. Я довольно много таких историй слышал. В моей жизни ничего такого мистического, связанного с Булгаковым, не было. Кроме одной истории, которую я в своей книге привожу. Когда мы были совсем молодые студенты и поехали в прекраснейший город Киев, не представляя, что и как произойдет 30‑40 лет спустя, мы первым делом пошли на Андреевский спуск, на самую красивую улицу мира. И мы знали про дом №13, где жила семья Булгаковых, который описан в «Белой гвардии». Нас было человек семь‑восемь, молодые студенты. Мы пришли к этому дому, и оттуда вышел мужичок в черной шапочке, под мышкой у него был «Фауст», посмотрел на нас и сказал: «Что, к Булгакову пришли? Сами знаете, Миша был не сахар». Развернулся и ушел (смеются). Я так думаю, он просто ждал, когда приходили люди, надевал шапочку, брал «Фауста» и выходил. Но я потом догадался, кто это был такой. Это был сын Василисы. Точнее, внук, скорее всего. То есть тот самый, кто был описан в романе в виде несимпатичного буржуя, и который в действительности был очень хороший человек, благородный. Который не стал выгонять семью Булгакова, который оставил за ними второй этаж, на котором было жить гораздо лучше, чем на первом. Тем не менее, Булгаков относился к нему неприязненно и все свои чувства в романе выразил. А больше ничего мистического сказать не могу.
Мне было интересно писать эту книгу. Но сказать, что Булгаков помогал или не помогал… У меня там есть такая мысль, если опять же о мистике рассуждать, Булгаков, как я думаю, как никто другой из моих героев, а может, и не только моих, он вообще по большому счету на нас очень обижен. На потомков, на читателей. Потому что мы ахаем, охаем, нам нравится Булгаков, его переводят, ставят, изучают, пишут диссертации. А при жизни ничего не было. У него это где‑то есть, он прямо цитирует в письме к Ермолинскому, кажется: «Меня все утешают, не беспокойтесь, все будет после вашей смерти напечатано». Он в ярость приходил от этих слов. Он не хотел после смерти, он не хотел вот этой славы. Он хотел при жизни. Он хотел бы обменять вот это признание, эти «ЖЗЛовские» биографии, все, что пишут серьезные ученые, все эти спектакли, постановки, вот все вот это вот. Он хотел, чтобы ему при жизни чего‑нибудь перепало. При жизни очень мало перепало. Да, у него была слава в 20‑е годы. Его ставили, конечно. Но это было недолго, это кончилось. 30‑е – это уже, в общем, могила, тишина. Это изоляция. Почти ничего нигде не шло. Поэтому чего ему помогать‑то? Туда‑то это уже не возьмешь. Булгаков не помогал.
А сложнее всего вам давалась о Платонове книжка?
Он вообще самый сложный, самый непонятный. О нем меньше всего биографического материала. Платонов очень хорошо изучен с текстологической и филологической точек зрения. Количество диссертаций, исследований, статей по Платонову зашкаливает. Над этим работают глубокие серьезные люди. Но заметьте, книжек о Булгакове очень много. Книжек о Платонове – раз, два и обчелся. Особенно если говорить не о поэтике Платонова, не о литературоведении, а именно о его жизни. У Льва Шубина были очень хорошие книжки. Была биография, которую Васильев написал. А так мало. В «ЖЗЛ» не было ничего. И это создавало очень большие сложности. И потом, я Платонова очень люблю, по‑человечески люблю, как никого из тех, о ком я писал. Когда любишь, это, наверное, важно, но мне это даже немножко мешало.
Вот Толстой – я не любил Толстого, он заставил меня его полюбить. Это такой очень хороший момент, от которого можно отталкиваться. Процесс превращения: не любил – полюбил. А когда ты изначально человека любишь, это немножко другая история. Я не хотел про него писать. Я хотел про него прочитать книжку. Я хотел понять, каким был человек, который написал то, что он написал. И поскольку никто не написал про него полноценной биографии, я стал писать, чтобы прочитать. Чтобы ответить на какие‑то вопросы, которые были для меня очень важными. Но это плохая стартовая площадка. Это затрудняет процесс работы над книгой. Действительно трудно писалось. А сам он… Я думаю, он был не очень честолюбивым человеком. И Толстой, и Булгаков, и кто угодно, были гораздо большие честолюбцы. Они гораздо больше писатели. Он все‑таки нет. Он какой‑то иной. Он про себя говорил: «Я человек технический». И поэтому про него было трудно писать.
И вы его называете одним из самых недооцененных русских авторов XX века?
Сейчас я бы так не сказал, что недооцененный. По крайней мере, в литературоведении цену ему очень хорошо понимают. Что касается широкой читательской публики. Ну как сказать? Все‑таки «Чевенгур» – это не «Тихий Дон». «Котлован» – это не «Хождение по мукам». Платонов не писал беллетристику, даже в очень хорошем смысле этого слова. Он бы, наверное, не согласился, платоноведы тоже, наверное, меня убьют, но все‑таки он элитный писатель. Как ни крути, при всем том, что он не любил всяческую элиту, чурался ее, но он очень избирателен по отношению к читателю. Ну трудно заставить, да даже не заставить… Но вот «Котлован». Для меня это величайшая книга XX века. Но кто просто так для души, для сердца, придя с работы… Ты уж скорее Бунина, Чехова будешь перечитывать. Если у тебя вкус какой‑то и привычка к чтению. Что ты будешь перечитывать «Котлован», не уверен. Это немножко другая история.
Но с Платоновым я в еще большей степени, чем с Шукшиным или кем‑то другим, уверен, что его будущее открытие впереди. И какие‑то фильмы, театральные постановки, вот это все должно быть. Почему нет фильма по «Котловану»? По «Чевенгуру»? Сериала, в конце концов, со вкусом сделанного, хорошего. Ведь более глубокого произведения о русской революции, чем «Чевенгур», нет, на мой взгляд. Это самая глубокая, самая искренняя, самая честная попытка понять, чем была революция. И если это сложновато читать, то фильм‑то можно сделать другой, его можно сделать более доступным. Фильм‑то можно так переработать, что это будет смотреться, как захватывающий сериал. Если бы я был режиссером, я бы, наверное, именно в этом направлении работал. Перевести Платонова на язык кино, язык театра. Что‑то делается. И по рассказам были хорошие фильмы. И Лариса Шепитько сняла «Родину электричества». «Счастливая Москва» – это один из самых загадочных, великих, прекрасных романов о 30‑х годах. 30‑е годы, их же очень мало в литературе. 20‑е – да, хорошо в литературе отразились. А 30‑е отразились маловато, или это была такая, уж совсем плоская литература соцреализма советская, которая вся в истории осталась. Ну да, «Мастер и Маргарита», но там очень своеобразная Москва отражена. А вот платоновская «Счастливая Москва» – вот вещь. А где фильм? Есть правда спектакль, в Табакерке, по‑моему, «Рассказ о счастливой Москве». Но фильм классный же можно было бы снять. Там просто все просится в кино. Он же сам сценарии писал. Очень кинематографичный писатель.
Нужен режиссер серьезный.
Да, думаю, нужен очень серьезный режиссер. И серьезное финансирование. Должна быть какая‑то программа экранизации Платонова.
А тот материал, который вы собирали, когда писали эти книги, за исключением Шукшина, собственно, «Мысленный волк» из этого и вырос?
Да. «Мысленный волк» – это такой итог, сухой (или сырой) остаток этих моих биографий. Биография – вещь строгая, суровая и очень жесткая. Ни тебе диалогов, ни тебе пейзажей, ни тебе каких‑то домыслов. По крайней мере, я считаю, что в биографии это невозможно. Но я прозаик. Я очень люблю описывать природу, погоду. Мне хочется просто про это писать, диалоги сочинять.
Когда читаешь «Мысленного волка», кажется, что вы по этому соскучились, наконец дорвались.
Да. Я очень долго не писал прозу, у меня был перерыв лет двенадцать. И поэтому да, вот такой роман написался.
Если брать современную историю, современный литературный процесс, сейчас серьезный крен в нон‑фикшн. Даже если брать последнюю выставку, там был представлен большой выбор. И сейчас, наверное, самое интересное рождается на стыке нон‑фикшн и художественной прозы, какое‑то такое соединение того и другого.
Я к стыку отношусь как раз немного осторожно. Я люблю чистые жанры. Если это нон‑фикшн, значит, это нон‑фикшн, я не хочу знать, как было на самом деле. У меня какая мысль, вот вы прочитайте биографии, как оно было на самом деле, того же Пришвина или Грина, Распутина Григория, потом посмотрите мой роман. Вот это интересно – сравнивать биографию и роман. Или, наоборот, прочитали роман, потом посмотрите биографии. Но если это просто гибридная вещь, и я не очень понимаю, где тут правда, а где нет, где автор придумал, а где было на самом деле… Я предпочитаю, без коктейлей. Чистый напиток.
Алексей Николаевич, и напоследок такой традиционный вопрос. Как я говорил, многие наши читатели сами пытаются писать прозу, стихи. Есть какой‑то совет для людей, ищущих себя в литературе?
Если пишете, то пишите. Ничего плохого в этом нет. Это совершенно хорошая вещь. Трудно писать, но все равно это счастье – когда выходит текст, когда ставишь точку, когда что‑то получается. Когда ты чувствуешь, что у тебя рука не успевает за мыслью. Это хорошее чувство. «Не можешь не писать – не пиши»? Ну, наверное, не пиши. Но если можешь писать – пиши. Это я могу сказать совершенно точно. А дальше надо пробиваться в большую литературу. Если у вас нет задачи… Вот как бабушка моя. Она была искренний любительский автор, писала стихи для своей семьи, для внуков, очень классные, милые стихи. Ей и в голову никогда не пришло посылать их в какой‑нибудь литературный журнал. Ее даже графоманкой не назовешь. Графоман – это человек, который пытается свой непрофессиональный дар профессионализировать. Эта граница есть. Но если вы чувствуете, что вы человек профессиональный, если литература для вас – нечто большее, чем просто писать стихи по поводу семейных случаев и торжеств, тогда, конечно, надо куда‑то двигаться. Это будет вас самих тонизировать, воодушевлять, вдохновлять, стимулировать, давать силу. Но при этом надо трезво себя оценивать. А трезвость самооценки – это нельзя себя недооценивать и нельзя себя переоценивать. Вот научиться себя трезво оценивать, это, на мой взгляд, для всех, особенно для молодых авторов, вещь чрезвычайно важная. И ни на кого не обижаться. Если вы плохо написали, кроме вас, в этом никто не виноват. Режиссер может жаловаться – плохая пленка, мало денег, у художника – плохой холст, у скульптора – глина не того замеса. В литературе все это не работает. В литературе только вы отвечаете за каждое слово, и этим литература прекрасна.
У вас написано семь книг в серии «ЖЗЛ». Замечательные там герои. Изначально у вас была диссертация по Пришвину. Поэтому издательство «Молодая гвардия» попросило вас написать книгу, уже знали вас как автора…
Нет, было по‑другому. Незадолго до этого, в 2002 году, в издательстве «Молодая гвардия» у меня вышла книжка прозы. А параллельно с этим я писал диссертацию о Пришвине, и надо было где‑то издать монографию. И я им предложил. Это был мой личный, прагматичный, эгоистичный интерес, мне надо было напечатать книжку. А тут можно было напечатать ее даже не за свои деньги, плюс они заплатили гонорар. И так получилось, что я стал автором молодогвардейской серии, благодаря этому обстоятельству.
Вышла книжка, я защитился, все было хорошо, а потом у меня возникла мысль написать что‑то еще для них, уже вне всяких диссертаций, уже никому ничего не должен. Говорю: «Давайте напишу вам Паустовского». Они: «Ну, это как‑то банально после Пришвина, давайте нам Грина или Алексея Толстого». Я задумался, я был как‑то равнодушен, не то чтобы равнодушен, но спокоен – ну, Грин, читал я «Алые паруса» когда‑то. Ну, Толстой, «Буратино», «Петр Первый», ну, «Хождение по мукам», ну, да. Но тут появился такой момент, пожалуй, именно в этот момент я стал профессиональным писателем. Никакого вдохновения тут уже не надо. Вот тебе дали заказ, с тобой заключили договор, выплатили аванс, вот тебе Грин, вот тебе Алексей Толстой – иди и пиши.
И есть срок?
Есть срок, и ты чувствуешь, что ты что‑то должен. Когда пишешь роман, ты никому ничего не должен. Хочешь – год пиши, хочешь – десять лет. Ты – свободный художник в свободном полете. А здесь ты подписался. Конечно, можно отодвинуть, но я как‑то по‑другому к этому относился. Есть – сиди работай. И так получилось, что у меня есть целая коллекция таких книг, семь штук. И это было очень интересно. Они все очень разные. И можно долго о каждом писателе говорить. Но все они, за исключением Шукшина, моя последняя книжка, все они современники, так или иначе.
Мне нужна была эта эпоха. Это люди, которые родились в XIX веке, воспитывались в одной системе ценностей, входили в тогдашнюю литературу дореволюционную, как‑то в этой литературе Серебряного века существовали. И потом их всех бросило в революцию, в советскую жизнь, все переломилось, переменилось, и они должны были как‑то выплывать, спасаться, выстраивать отношения с новой властью, принимать, не принимать, бороться, не бороться, прогибаться, идти на компромисс или нет. Как это происходило у каждого из них, для меня это оказалось жутко интересной сюжетной линией, прямо как приключенческий роман.
В каком‑то смысле это можно рассматривать как серию?
Да, в каком‑то смысле она и получилась серией, как люди перешли этот перевал, этот разлом в русской истории.
Вы очень интересно рассуждали, когда вы пишете, герой вам помогает, мешает или он равнодушен. В частности, Алексей Николаевич, ваш тезка двойной, вам активно помогал.
Да. Думаю, что помогал. Уж больно интересно он открылся сразу. Все, что я знал до этого об Алексее Толстом… Ну, циник, ну, приспособленец, мало ли циников и приспособленцев было в русской советской литературе. Но, начиная с момента его рождения, с тайны его происхождения, его фамилии, кто был его настоящий отец, кто мнимый, это был материал, который просился в роман. Вроде бы это вещи, специалистам известные, но их можно было разложить гораздо более интересно в роман. Потом, как это все отражалось в мемуаристике. Ведь что очень важно – когда ты пишешь, ты пользуешься документальными источниками. Скажем, об Андрее Платонове мало воспоминаний. Очень мало. Он прожил незаметную жизнь, был далеко от литературного центра. В этом была его абсолютно сознательна стратегия. Он не любил писателей, не любил литературную жизнь. Он любил совсем другие вещи и поэтому был где‑то в стороне. А Толстой любил все это, любил быть в центре. И поэтому о нем существует куча источников, куча мемуаров, написанных очень ярко, интересно. Самые главные, конечно, бунинские мемуары «Третий Толстой». Но и много других. И Степун писал, и в дневниках Блока есть, и у Чуковского есть. Кто только его не вспоминал. Такой «вкусный» материал просился, чтобы его обработали. И я создал такой портрет и чувствовал, что Толстой помогает, что Толстому нравится, как я про него пишу. Я не сюсюкую, не умиляюсь, но в то же время и не мажу его черной краской, что ты подлец, сталинист недобитый, не так же все. Да, он любил Сталина, ну и что? Много кто любил Сталина. И его отношение к эмиграции – почему ушел, как жил в эмиграции, чего вернулся в советскую Россию – это все оказалось дико увлекательно.
А ваше отношение к нему во время работы как‑то поменялось?
Поменялось. Изначально он мне не нравился. Как человек, который кричал: «Долой КПСС!», я сначала относился к Толстому негативно. Потому что подлец, предал белое движение, предал русскую эмиграцию, стал здесь одним из столпов социалистического реализма, советской литературы, советского строя. А потом, когда я стал изучать мотивы его поведения, почему он так делал, что им двигало, то мое отношение и к нему, и, надо сказать, и к советскому времени стало усложняться, меняться. Благодаря Платонову тоже. Я стал понимать, что с советской историей все не так просто, не так однозначно. Нас учили, в советское время один был крен, в конце 80‑90‑х – другой крен. На самом деле все было не так просто. И через человеческую личность, через ее судьбу ты начинаешь это понимать. Начинаешь чувствовать как бы вещество времени. Для меня эти биографии были машиной времени. Через этих людей начинаешь понимать что‑то очень сущностное, важное про историю собственной страны.
В каком‑то смысле в Шукшине все это соединилось. Вы говорите, что в его биографии соединилось все самое плохое и самое хорошее и сделало этого человека.
Да, в каком‑то смысле Шукшин стал символом советской эпохи. Это ведь как Гагарин. Гагарин же – это взлет. Или, может быть, Королев даже более яркий пример, потому что с одной стороны это ГУЛАГ, с другой стороны – это Байконур. Две крайние точки, к сожалению, трагически связанные. Я не знаю точно, строили ли Байконур заключенные, но, понятное дело, многие наши объекты, и атомные, и прочие, строились именно заключенными, это факт. Так вот в Шукшине, хотя он не имел никакого отношения ни к ГУЛАГу, ни к космосу, в нем все это связалось. Потому что он сын расстрелянного русского мужика, который похоронен на Новодевичьем кладбище среди российской элиты. Путь, который он проделал с самого советского низа к самому советскому верху за 45 лет жизни – это совершенно потрясающая история. Как ему это удалось? Что за этим стояло? Какой была его личная история поведения? Сколько изворотливости на самом деле, сколько хитрости, сколько упорства, воли было в этом мужике…
Русская мужицкая хитрость…
Да не только мужицкая. Там было много и интеллигентской хитрости, и рабочей, и какой угодно. Мне еще потому Шукшин оказался очень интересен, я прочитал где‑то у Валентина Распутина слова, что если бы потребовалось на каком‑то всемирном сходе явить портрет россиянина на примере только одного человека, то таким человеком стал бы Шукшин. Я когда прочитал, подумал, ну, просто высокая оценка. Ну почему Шукшин? Почему не тот же Распутин, почему не Абрамов, не Свиридов, не Глазунов, не Калашников. Кого угодно назовите из великих русских людей XX века. Почему Шукшин? Но именно Шукшин. Потому что крестьянин, который стал рабочим, который стал интеллигентом. Актер, который стал режиссером, стал писателем. То есть он представляет собой тип сложного человека в самом буквальном смысле этого слова. Сложный – то есть сложенный. Он вобрал в себя всю советскую жизнь, все советские страты, классы, как никто другой. В нем это просто сгустилось, сконцентрировалось. Это очень противоречивое соединение русского, советского, но действительное фактическое соединение, вот это Шукшин. И этим он очень интересен.
И как он пробивался, этот простой вроде бы Вася Шукшин. Да ничего подобного – хитрый, расчетливый, умный, честный, искренний, страдающий, благородный, лукавый – какой угодно, масса самых разных определений, который к нему подойдут. Но всегда твердо нацеленный на успех. Вот как рыба на нерест идет, так Шукшин двигался к успеху, и следить за этим, смотреть, как он этого добивался, как он пробивался в высокие кабинеты, как он, ненавидя коммунистов, тем не менее был членом КПСС и ходил на Старую площадь, ходил в ЦК просил деньги, чтобы снять антисоветский фильм. Жутко интересно!
Шукшин – писатель, актер, режиссер, что сейчас в нем важнее для нашего времени?
Я все‑таки за писателя. Он ведь до конца не очень прочитан. Хотя сейчас в театре Наций Евгений Миронов с Чулпан Хаматовой, и с другими актерами, конечно, сделали классный совершенно спектакль «Рассказы Шукшина». Хотя мне кажется, там немножко облегченный Шукшин, немножко капустник по Шукшину, он сложнее и трагичней. Но все равно публика ходит, это коммерческий спектакль. Он как рассказчик, мне кажется, еще до конца не прочитан. Большинство из нас знает у Шукшина какие‑то хрестоматийные вещи. А у него есть куча не очень известных, но жутко интересных рассказов, особенно написанных в конце жизни. В конце жизни его манера письма становилась другой. К тем же «Чудикам» он относился гораздо сложнее, вообще иначе относился, чем в 60‑е годы. Как писатель он погиб на взлете. Он явно эволюционировал, он двигался, развивался.
Для писателя, прозаика что такое такой возраст…
Конечно, в неполных 45. Вот что касается его фильмов, может быть, они действительно устарели. Кроме разве что «Калины красной. Я, знаете, о чем подумал, вот смотрел я фильм «Девчата», его периодически показывают, как ностальгическую советскую классику, и многие смотрят, ну а чего, бесхитростный фильм. А Шукшина не показывают. Ведь не показывают, например, «Живет такой парень». Я не помню, кто из них раньше снят, но очевидно, что это фильмы‑антиподы. «Девчата» – искусственный фильм, снят в декорациях, там нет натуральных съемок, хотя действие происходит где‑то на севере, лесоповал, но понятно, что это снято в киностудии, это искусственно. Шукшин искусственность ненавидел. Шукшин снимал фильм «Живет такой парень» у себя на Алтае, в естественных пейзажах, и для него это было важно – дать натуральный продукт.
Но сейчас, когда прошло 50 лет, центральные каналы Шукшина не показывают. По каналу «Культура» может быть когда‑нибудь покажут какой‑нибудь фильм. Но сказать, что шукшинские фильмы стали такой же классикой, как, например, «Иван Васильевич меняет профессию», как «Ирония судьбы», как какой‑то фильмофонд советский, почему‑то Шукшин из этого фонда выпал. И мне жаль, что это так. Но там тоже не дураки сидят, когда отбирают. И эти люди, которые не хотят, чтобы народ кнопки переключал, они почему‑то показывают «Девчат», а не «Живет такой парень». Вот такая история.
Но в театре Шукшин идет, это классно. Он ведь сам тоже двигался от кино к театру. И, возможно, будущее Шукшина – его постижение через театр. Может быть, возвращение к его книгам. Может быть, еще какие‑то фильмы будут сниматься по его рассказам и окажутся созвучными нынешним временам. Там можно много интересного, созвучного найти, поэтому я думаю, у Шукшина серьезное будущее.
А кто‑нибудь сможет снять о Степане Разине фильм? Там сценарий‑то есть?
Сценарий есть. Хороший вопрос, но это надо режиссеров спрашивать. Он же хотел снять очень жестокий, страшный, кровавый фильм. Фильм о вечной борьбе русского народа против русского государства. Шукшин – антигосударственник. Принципиальный. Анархист. Стихийный человек. И власть его боялась абсолютно справедливо. И он ведь сделал все, чтобы снять этот фильм. Все. И тогда его нашли убитым, мертвым нашли. Если бы я писал роман о Шукшине – конечно, убитым. Все способы перепробовали, чтобы не дать ему снять этот фильм. А когда поняли, что остановить его нельзя, его убили. Скучные факты говорят, что, скорее всего, это была естественная смерть. Но метафизически это, конечно, было убийство. Его просто надо было остановить. Но это не потому, что советская власть. Это любая власть, это любое государство. Шукшин был опасен. Очень хорошо сказал писатель Олег Павлов: «Он был бы опасен и для царской власти, и для советской, и по большому счету для любой другой, включая нынешнюю». Поэтому кто и как будет финансировать фильм Шукшина, я не знаю.
Возвращаясь к остальным вашим героям. Толстой помогал, а как остальные себя вели? С Булгаковым, говорят, постоянно связаны какие‑то мистические истории. Было что‑то?
Мне кажется, люди, которые говорят про мистические истории, связанные с Булгаковым, набивают себе цену. Я довольно много таких историй слышал. В моей жизни ничего такого мистического, связанного с Булгаковым, не было. Кроме одной истории, которую я в своей книге привожу. Когда мы были совсем молодые студенты и поехали в прекраснейший город Киев, не представляя, что и как произойдет 30‑40 лет спустя, мы первым делом пошли на Андреевский спуск, на самую красивую улицу мира. И мы знали про дом №13, где жила семья Булгаковых, который описан в «Белой гвардии». Нас было человек семь‑восемь, молодые студенты. Мы пришли к этому дому, и оттуда вышел мужичок в черной шапочке, под мышкой у него был «Фауст», посмотрел на нас и сказал: «Что, к Булгакову пришли? Сами знаете, Миша был не сахар». Развернулся и ушел (смеются). Я так думаю, он просто ждал, когда приходили люди, надевал шапочку, брал «Фауста» и выходил. Но я потом догадался, кто это был такой. Это был сын Василисы. Точнее, внук, скорее всего. То есть тот самый, кто был описан в романе в виде несимпатичного буржуя, и который в действительности был очень хороший человек, благородный. Который не стал выгонять семью Булгакова, который оставил за ними второй этаж, на котором было жить гораздо лучше, чем на первом. Тем не менее, Булгаков относился к нему неприязненно и все свои чувства в романе выразил. А больше ничего мистического сказать не могу.
Мне было интересно писать эту книгу. Но сказать, что Булгаков помогал или не помогал… У меня там есть такая мысль, если опять же о мистике рассуждать, Булгаков, как я думаю, как никто другой из моих героев, а может, и не только моих, он вообще по большому счету на нас очень обижен. На потомков, на читателей. Потому что мы ахаем, охаем, нам нравится Булгаков, его переводят, ставят, изучают, пишут диссертации. А при жизни ничего не было. У него это где‑то есть, он прямо цитирует в письме к Ермолинскому, кажется: «Меня все утешают, не беспокойтесь, все будет после вашей смерти напечатано». Он в ярость приходил от этих слов. Он не хотел после смерти, он не хотел вот этой славы. Он хотел при жизни. Он хотел бы обменять вот это признание, эти «ЖЗЛовские» биографии, все, что пишут серьезные ученые, все эти спектакли, постановки, вот все вот это вот. Он хотел, чтобы ему при жизни чего‑нибудь перепало. При жизни очень мало перепало. Да, у него была слава в 20‑е годы. Его ставили, конечно. Но это было недолго, это кончилось. 30‑е – это уже, в общем, могила, тишина. Это изоляция. Почти ничего нигде не шло. Поэтому чего ему помогать‑то? Туда‑то это уже не возьмешь. Булгаков не помогал.
А сложнее всего вам давалась о Платонове книжка?
Он вообще самый сложный, самый непонятный. О нем меньше всего биографического материала. Платонов очень хорошо изучен с текстологической и филологической точек зрения. Количество диссертаций, исследований, статей по Платонову зашкаливает. Над этим работают глубокие серьезные люди. Но заметьте, книжек о Булгакове очень много. Книжек о Платонове – раз, два и обчелся. Особенно если говорить не о поэтике Платонова, не о литературоведении, а именно о его жизни. У Льва Шубина были очень хорошие книжки. Была биография, которую Васильев написал. А так мало. В «ЖЗЛ» не было ничего. И это создавало очень большие сложности. И потом, я Платонова очень люблю, по‑человечески люблю, как никого из тех, о ком я писал. Когда любишь, это, наверное, важно, но мне это даже немножко мешало.
Вот Толстой – я не любил Толстого, он заставил меня его полюбить. Это такой очень хороший момент, от которого можно отталкиваться. Процесс превращения: не любил – полюбил. А когда ты изначально человека любишь, это немножко другая история. Я не хотел про него писать. Я хотел про него прочитать книжку. Я хотел понять, каким был человек, который написал то, что он написал. И поскольку никто не написал про него полноценной биографии, я стал писать, чтобы прочитать. Чтобы ответить на какие‑то вопросы, которые были для меня очень важными. Но это плохая стартовая площадка. Это затрудняет процесс работы над книгой. Действительно трудно писалось. А сам он… Я думаю, он был не очень честолюбивым человеком. И Толстой, и Булгаков, и кто угодно, были гораздо большие честолюбцы. Они гораздо больше писатели. Он все‑таки нет. Он какой‑то иной. Он про себя говорил: «Я человек технический». И поэтому про него было трудно писать.
И вы его называете одним из самых недооцененных русских авторов XX века?
Сейчас я бы так не сказал, что недооцененный. По крайней мере, в литературоведении цену ему очень хорошо понимают. Что касается широкой читательской публики. Ну как сказать? Все‑таки «Чевенгур» – это не «Тихий Дон». «Котлован» – это не «Хождение по мукам». Платонов не писал беллетристику, даже в очень хорошем смысле этого слова. Он бы, наверное, не согласился, платоноведы тоже, наверное, меня убьют, но все‑таки он элитный писатель. Как ни крути, при всем том, что он не любил всяческую элиту, чурался ее, но он очень избирателен по отношению к читателю. Ну трудно заставить, да даже не заставить… Но вот «Котлован». Для меня это величайшая книга XX века. Но кто просто так для души, для сердца, придя с работы… Ты уж скорее Бунина, Чехова будешь перечитывать. Если у тебя вкус какой‑то и привычка к чтению. Что ты будешь перечитывать «Котлован», не уверен. Это немножко другая история.
Но с Платоновым я в еще большей степени, чем с Шукшиным или кем‑то другим, уверен, что его будущее открытие впереди. И какие‑то фильмы, театральные постановки, вот это все должно быть. Почему нет фильма по «Котловану»? По «Чевенгуру»? Сериала, в конце концов, со вкусом сделанного, хорошего. Ведь более глубокого произведения о русской революции, чем «Чевенгур», нет, на мой взгляд. Это самая глубокая, самая искренняя, самая честная попытка понять, чем была революция. И если это сложновато читать, то фильм‑то можно сделать другой, его можно сделать более доступным. Фильм‑то можно так переработать, что это будет смотреться, как захватывающий сериал. Если бы я был режиссером, я бы, наверное, именно в этом направлении работал. Перевести Платонова на язык кино, язык театра. Что‑то делается. И по рассказам были хорошие фильмы. И Лариса Шепитько сняла «Родину электричества». «Счастливая Москва» – это один из самых загадочных, великих, прекрасных романов о 30‑х годах. 30‑е годы, их же очень мало в литературе. 20‑е – да, хорошо в литературе отразились. А 30‑е отразились маловато, или это была такая, уж совсем плоская литература соцреализма советская, которая вся в истории осталась. Ну да, «Мастер и Маргарита», но там очень своеобразная Москва отражена. А вот платоновская «Счастливая Москва» – вот вещь. А где фильм? Есть правда спектакль, в Табакерке, по‑моему, «Рассказ о счастливой Москве». Но фильм классный же можно было бы снять. Там просто все просится в кино. Он же сам сценарии писал. Очень кинематографичный писатель.
Нужен режиссер серьезный.
Да, думаю, нужен очень серьезный режиссер. И серьезное финансирование. Должна быть какая‑то программа экранизации Платонова.
А тот материал, который вы собирали, когда писали эти книги, за исключением Шукшина, собственно, «Мысленный волк» из этого и вырос?
Да. «Мысленный волк» – это такой итог, сухой (или сырой) остаток этих моих биографий. Биография – вещь строгая, суровая и очень жесткая. Ни тебе диалогов, ни тебе пейзажей, ни тебе каких‑то домыслов. По крайней мере, я считаю, что в биографии это невозможно. Но я прозаик. Я очень люблю описывать природу, погоду. Мне хочется просто про это писать, диалоги сочинять.
Когда читаешь «Мысленного волка», кажется, что вы по этому соскучились, наконец дорвались.
Да. Я очень долго не писал прозу, у меня был перерыв лет двенадцать. И поэтому да, вот такой роман написался.
Если брать современную историю, современный литературный процесс, сейчас серьезный крен в нон‑фикшн. Даже если брать последнюю выставку, там был представлен большой выбор. И сейчас, наверное, самое интересное рождается на стыке нон‑фикшн и художественной прозы, какое‑то такое соединение того и другого.
Я к стыку отношусь как раз немного осторожно. Я люблю чистые жанры. Если это нон‑фикшн, значит, это нон‑фикшн, я не хочу знать, как было на самом деле. У меня какая мысль, вот вы прочитайте биографии, как оно было на самом деле, того же Пришвина или Грина, Распутина Григория, потом посмотрите мой роман. Вот это интересно – сравнивать биографию и роман. Или, наоборот, прочитали роман, потом посмотрите биографии. Но если это просто гибридная вещь, и я не очень понимаю, где тут правда, а где нет, где автор придумал, а где было на самом деле… Я предпочитаю, без коктейлей. Чистый напиток.
Алексей Николаевич, и напоследок такой традиционный вопрос. Как я говорил, многие наши читатели сами пытаются писать прозу, стихи. Есть какой‑то совет для людей, ищущих себя в литературе?
Если пишете, то пишите. Ничего плохого в этом нет. Это совершенно хорошая вещь. Трудно писать, но все равно это счастье – когда выходит текст, когда ставишь точку, когда что‑то получается. Когда ты чувствуешь, что у тебя рука не успевает за мыслью. Это хорошее чувство. «Не можешь не писать – не пиши»? Ну, наверное, не пиши. Но если можешь писать – пиши. Это я могу сказать совершенно точно. А дальше надо пробиваться в большую литературу. Если у вас нет задачи… Вот как бабушка моя. Она была искренний любительский автор, писала стихи для своей семьи, для внуков, очень классные, милые стихи. Ей и в голову никогда не пришло посылать их в какой‑нибудь литературный журнал. Ее даже графоманкой не назовешь. Графоман – это человек, который пытается свой непрофессиональный дар профессионализировать. Эта граница есть. Но если вы чувствуете, что вы человек профессиональный, если литература для вас – нечто большее, чем просто писать стихи по поводу семейных случаев и торжеств, тогда, конечно, надо куда‑то двигаться. Это будет вас самих тонизировать, воодушевлять, вдохновлять, стимулировать, давать силу. Но при этом надо трезво себя оценивать. А трезвость самооценки – это нельзя себя недооценивать и нельзя себя переоценивать. Вот научиться себя трезво оценивать, это, на мой взгляд, для всех, особенно для молодых авторов, вещь чрезвычайно важная. И ни на кого не обижаться. Если вы плохо написали, кроме вас, в этом никто не виноват. Режиссер может жаловаться – плохая пленка, мало денег, у художника – плохой холст, у скульптора – глина не того замеса. В литературе все это не работает. В литературе только вы отвечаете за каждое слово, и этим литература прекрасна.
Евгений Сулес
