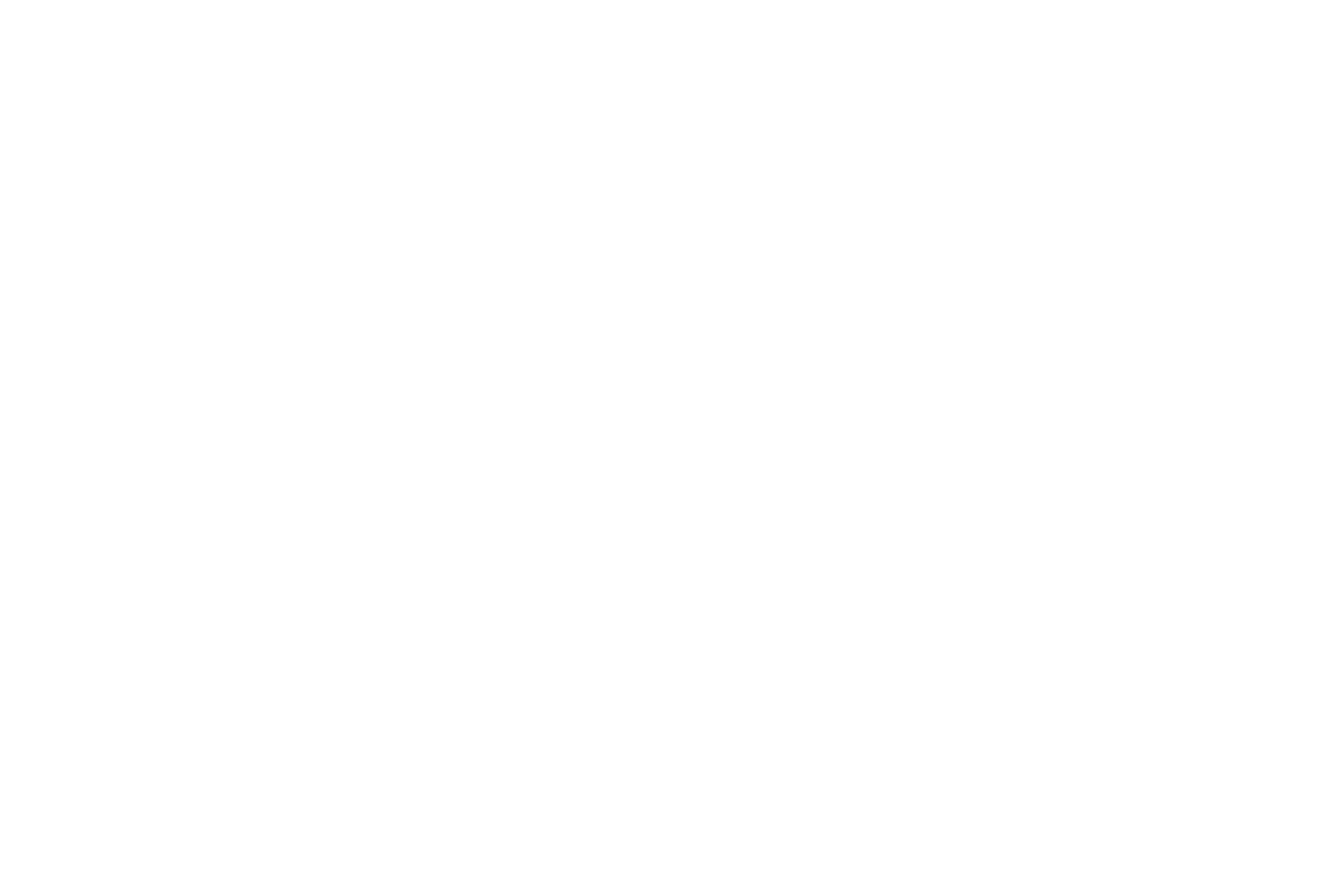
Татьяна Полякова
Вопросы: Евгений Сулес
Сегодня у нас в гостях Татьяна Полякова. Российская писательница, автор произведений в жанре авантюрный детектив. Здравствуйте, Татьяна!
Здравствуйте!
В ушедшем году исполнилось 20 лет вашей профессиональной писательской деятельности. Расскажите, пожалуйста, если вспомнить ваше творчество 20 лет назад и сейчас, что изменилось в книгах Татьяны Поляковой, в вашем подходе к творчеству? Какие перемены?
Очень много изменилось. Прежде всего, изменилась страна, время. Мы живем уже не в той эпохе, в которой я начинала писать. В литературу я пришла в конце 90‑х, первая книжка вышла в 97‑м году. И если мы сейчас сделаем экскурс в историю, а это уже именно история, то это все еще до нашего дефолта 98‑го года. С моей точки зрения, это была совершенно другая страна. И люди были другие. Ко многому по‑другому относились, нежели сейчас. Все это нашло отражение в моих книгах. Те детективы, которые я писала в конце 90‑х, и то, что я делаю сейчас, это очень, очень большая разница.
В 90‑е годы действительно было тяжелое время. Я прекрасно их помню. И дефолт 98‑го года. В то нестабильное, сложное время писались более светлые вещи?
Да.
А в более стабильные нулевые?
А сейчас просто другое отношение. Тогда, вы правильно сказали, очень нестабильное время было, это и бесконечные переделы собственности, в связи с этим – некие персонажи, бандиты и прочие. Меня очень часто упрекали, что у меня их много. Я этот упрек переадресовывала сразу к тому, что происходит на самом деле. Какая жизнь – такая и песня. Это была не моя проблема. А сейчас детектив строится больше вокруг семейных взаимоотношений. Он в какой‑то степени ближе к тому классическому детективу, к которому мы привыкли. Сейчас, конечно, можно писать боевики по старинке. Как в 90‑х, люди бегают с пистолетами и на улицах стреляют. Но, если честно, в это мало верится. Если это где‑то и есть, то не настолько привычно для читателей, как это было в 90‑х. Поэтому, хочешь ты или нет, если следуешь правде жизни, тебе приходится меняться.
Вы закончили филфак.
Да.
У нас публика тоже в основном пишущая, пытающаяся писать стихи, прозу, многих интересует вопрос, можно ли стать писателем без филфака или без Литературного института.
Конечно, можно. Дело в том, о чем вы будете писать. Какая у вас идея, тема. Почему вы вообще приходите к необходимости писать. Для меня, например, эта необходимость должна быть обязательно. Я имею в виду не для меня как для автора конкретного, а вообще в понимании, что такое писатель. На встречах с молодыми людьми, которые хотят писать, я всегда говорю: «Если ты можешь не писать, не пиши».
То есть эта формула Льва Толстого очень точная?
Она абсолютно точная. Если человек приходит в литературу просто с желанием оставить в ней свой след, он сталкивается с большим количеством трудностей. Возвращаясь к вопросу, есть люди, которые приходят со своей темой. И они настолько ее хорошо знают, она их настолько беспокоит, тревожит и просится наружу, что, может быть, с точки зрения литературоведа, там что‑то не так, могут быть вопросы к этому писателю, но он настолько заражает своим энтузиазмом, желанием рассказать историю и своими чувствами, эмоциями, что вам, в общем‑то, не очень интересно, насколько он прав с точки зрения филологии во всем этом. Вы просто читаете историю, которая вас вдохновила точно так же, как его. То есть он смог вам это передать. Но для этого, конечно, нужно иметь талант. Как минимум.
Ну, талант. Но филфак все‑таки дает еще какое‑то ремесло, инструмент к тому, чтобы выразить…
Да. Вы знаете, никакое образование в писательстве не лишнее. Даже если вы физик‑теоретик. Любое образование всегда на пользу.
Вообще образование – не лишнее.
Причем чем больше у вас образований, тем вам в каких‑то вещах легче. Образование в первую очередь учит раскладывать все по полочкам.
Системе.
Система. Некая база, на которую вы постоянно что‑то прибавляете, прибавляете, прибавляете. И таким образом в результате получается образованный человек. Желательно не очень поздно. Хотелось бы хотя бы годам к сорока. Если нет базового образования и постоянного личного изучения вещей, которые вам интересны, тогда это очень сложно. И человек будет сталкиваться с большим количеством трудностей. Чем хорош филфак или литературное образование. Я имею в виду, там, где учат на писателя. Есть вещи, которым можно научить. Вот там, собственно, этому и учат. Идет разбор произведений. Мы видим схему, мы видим составляющие хорошего произведения. Они всегда везде одни и те же. То есть неважно, что вы пишете. Есть такая синусоида, которая показывает, если угодно, накал страстей. Вот от такой сцены, которая требует и от писателя, и от читателя большого напряжения, к более плавному. Если вы будете постоянно держать читателя в напряжении, он в конце концов устанет, ему надоест, и он займется чем‑то другим. Просто захочет передохнуть и от вас, и от своего напряжения.
Ритм должен быть.
Да. Вот всему этому можно научить. Объяснить, что такое речевая характеристика. Недавно меня молодой человек обвинил в том, что я употребила лексику, близкую к нецензурной, нецензурную я, естественно, не употребляю. А такую вот – не буду повторять слово в эфире, оно абсолютно безобидное, но ему не понравилось. И он сказал, что всегда меня уважал за то, что я без этого обходилась, и вдруг я его разочаровала. Я ему объяснила, что есть такое понятие, как речевая характеристика. Выяснилось, что он об этом не знал. То есть я прочитала такой курс лекций…
То есть персонаж иначе сказать не мог.
Конечно. Потому что или вот так, или он будет очень странный персонаж. Бомж не может говорить таким языком, каким наши депутаты Государственной Думы говорят. То есть депутат Государственной Думы, который говорит, как бомж, – это пожалуйста. А вот наоборот – это очень и очень под сомнением. Нас учили, что бытие определяет сознание. Если вы оказались в такой ситуации достаточно долгое время, вам сложно абстрагироваться от нее и вести себя исключительно интеллигентно. Вот таким вещам можно и нужно учиться. Другое дело, я не буду говорить в процентном отношении, сколько это составляет от того, что нужно писателю, чтобы быть не просто человеком, который что‑то пишет и которого иногда кто‑то читает, а чтобы быть писателем в нашем нормальном понимании – который регулярно издается, которого знают, читают, и у которого есть своя определенная читательская аудитория.
Но, смотрите, талант, образование. Но ведь очень важный момент – работоспособность.
Да.
Вы пишете каждый день? Как у вас строится работа?
Когда я сажусь за новую книгу, я работаю каждый день. И это не подневольный труд, это такая потребность. Но это у меня. Можно, наверное, себя пересиливать. Но я могу сказать, так как я с годами все ленивее и ленивее, раньше я писала, если взять уже готовую книжку, страниц 20‑25 в день. А сейчас – где‑то десять, максимум, 15. С возрастом это все уже сложнее. Или просто лень.
У вас есть какая‑то задача – вот я столько‑то знаков или страниц ˂должна написать˃?
Нет, у меня нет задачи, постранично – нет. У меня есть задача на сегодняшний день – что я хочу сделать. Есть некий видеоряд, мне надо все это быстренько записать. А потом уже, когда черновой вариант готов, я все это буду прорабатывать, буду работать с языком и т. д. На первом этапе – быстро‑быстро записать то, что я вижу. Вот посадила я двух своих персонажей, вот они начинают что‑то делать, говорить, а мне надо за ними очень быстро записать.
И как? Вот видения на сегодня закончились. Вы?
Я довольна, если, например, написала определенные сцены, которые хотела, которые я видела. И, в принципе, меня это удовлетворило, и я на сегодня перестала работать. Следующий день я начну с того, что буду перечитывать то, что написала накануне, безбожно черкать, выкидывать, а потом уже дальше. Я из тех писателей, которые не могут писать вразброс. То есть возникло у меня сегодня желание финальную сцену написать – и я ее пишу, а завтра вернусь к началу. Я так не могу. Для меня история должна развиваться так, как она в жизни. Здесь начало, вот здесь – середина, а здесь – концовка. Вот так вот я и пишу. Постепенно.
Я прочитал и отчасти порадовался, что вы пишете в тетрадях, что не признаете ни компьютер, ни печатную машинку даже. Только тетради. Да?
Да. Это привычка такая.
Карандашом, ручкой?
Гелевая ручка. Обязательно синяя. Но это уже такие, свои вещи. Тетрадка обязательно 48 листов. Пять тетрадей как раз уходит на роман. Мне это даже удобно, в том плане, что я себя корректирую. На третьей тетрадке мне уже надо выходить в пике. А когда заканчивается четвертая, уже надо понимать, что надо все подбивать и выходить на финишную прямую.
Получается, что книги по объему примерно вот такие.
Да. Они все примерно одинаковые.
А тетради эти хранятся? Есть архив?
Да. Добрые люди телевизионщики, которые периодически ˂появляются˃, обычно весной и осенью возникает идея о литературных неграх. Я должна сказать, что со мной вопрос отпал сразу, больше, по крайней мере, я не слышала ничего в свой адрес. Еще на заре 2000‑х ко мне прибыли люди на дачу, где у меня все хранится. А я такой человек, дева по гороскопу, у меня все аккуратненько, в отдельных папочках, в отдельных файликах, все подписано, когда начала, когда закончила, это тоже какие‑то личностные вещи. И я им все это показала, они посмотрели, очень расстроились, тем более что я пишу от руки. То есть, конечно, можно выдать идею, что кто‑то пишет за меня, потом я от руки переписываю в тетрадки с исправлениями. Но, по‑моему, это уже даже для самых наших продвинутых каналов откровенный бред. Поэтому меня сразу оставили в покое.
То есть миф разрушен, друзья мои. Не существует литературных негров. Во всяком случае у Татьяны Поляковой. А в принципе это возможно? Есть авторы, у которых…
Конечно, есть. Есть целая сфера в литературе. Я очень сомневаюсь, например, что какую‑нибудь книгу пишет политик. Во‑первых, это ему сложно с точки зрения литературы. Понятно, что есть помощники. Да и, наверное, тяжело ему, и времени нет. Ну это мы так, мягко. Если он действующий политик, а не на пенсии. Естественно, обращаются к людям‑профессионалам, которые это сделают грамотно. Человек рассказывает, объясняет, что бы он хотел видеть в этой книге. Большинство литературных мемуаров – это как раз...
Это более‑менее понятно. А если бы человек писал художественную литературу?
Я думаю, что тоже, наверное, есть. Есть книги, которые объединяют ряд авторов. Они пишут под одной фамилией. И, честно говоря, я не вижу в этом ничего предосудительного, если люди не лгут. Если человек выставляет на книжке одну фотографию и печатается под одной фамилией, а это группа товарищей, это не очень красиво, с моей точки зрения. А если люди заявляют себя как бригада авторов, которые работают вместе…
То есть открытый прием…
Конечно. Почему нет. Им так удобнее работать, и мы знаем и из истории литературных негров. Тот же Дюма, никто ему не ставил, по‑моему, в вину то, что он использует чей‑то труд. Он был очень плодовит по тем временам, когда не было ни пишущих машинок, ни компьютеров, элементарно переписать – и то было проблемой. А человек был очень стеснен в средствах, ему надо было торопиться во временном промежутке. Плюс он писал большие романы, то есть большие формы, по 500, по 600 страниц, двухтомники, трехтомники. Сейчас мы почему‑то обходим это стороной. Ну, это же Дюма. А кто вообще задался вопросом, какой процент написан лично им, а где с помощью кого‑то. Я думаю, это очень глупый вопрос. Потому что идея принадлежит ему. Все, что мы имеем на сегодняшний день, это все‑таки он. Несмотря на какую‑то там помощь и прочая.
Как сейчас сериалы снимают. Есть такой главный шоураннер, у него есть люди, а они воплощают его идею.
Да, да. А остальные люди – те, которые помогают и делают то, что он просто физически не успевает сделать. Я не вижу в этом ничего предосудительного, если это совершенно открыто. Дюма никогда не скрывал, что на него работает группа товарищей.
А может быть история – человек стал популярным писателем и исписался. Как в «Сталкере» есть персонаж, который исписался. Но поскольку это уже бизнес, это приносит доходы, за него продолжает кто‑то писать под этим брендом, и это не разглашается.
Это трагедия на самом деле. И избави нас, я имею в виду всю нашу писательскую братию, от такого. Потому что если человек оценивает себя как исписавшегося, то есть он готов отдать то, чем он живет, другим людям, можете представить ситуацию, в которой человек находится? Это страшно.
Это почти как своих детей отдать в другую семью.
Да. Мы с вами мыслим в одном ключе. Это практически как отдать своего ребенка кому‑то на воспитание. И сколько бы ты ни говорил, что отдаешь его в хорошие руки, что я сильно пьющий, а там хорошая семья, его поднимут на ноги и он будет благодарен, внутри‑то вы знаете, что это не так. Это очень страшная штука. Как правило, эти истории о писателях, которые больше не могут писать, они такие, драматичные. Потому что это действительно трагедия. Я думаю, что проще просто писать, например, гениальную книгу всю оставшуюся жизнь. И мы такие примеры знаем. Мы знаем, например, писателя вообще одной книги.
Да. Сэлинджер взял и замолчал потом.
Да, да, да. Мы с вами одними именами мыслим.
Один контекст. Скажите, а как вы восстанавливаетесь? Написали книгу и сразу начинаете вторую? Или, я знаю, вы любите путешествовать.
Надо обязательно куда‑то отправиться. Это опять не обязательно руководство к действию для всей пишущей братии. Я когда работаю, стараюсь от мира немножечко уединиться. Почему? Потому что, как правило, работаю восемь‑десять часов в день. И под конец набирается такая эмоциональная усталость! Потому что ты ж вкладываешься, ты ж не просто какой‑то текст пишешь. А когда приходит пора работы над черновым вариантом, я имею в виду работы непосредственно над текстом, когда ты читаешь свою книгу восемь, иногда девять раз, и бесконечно правишь, и тихо звереешь, потому что понимаешь, что все не так, все ужасно. В какой‑то момент обязательно нужно остановиться. То есть ты в очень напряженном эмоциональном состоянии плюс еще совершенно нормальная человеческая усталость оттого, что очень много времени проводишь за столом и это связано с умственным напряжением, ты просто устаешь. И вдруг в какой‑то момент все это заканчивается. Вот я, например, в два часа ночи отправила роман своему редактору, выполнила все, что хотела, а утром встала, и получается, что делать мне нечего. Вчера мне ни на что не хватало времени, а сегодня у меня его безумное количество. И это очень странно. Это, знаете, как дети уезжают из дома. Вот они у тебя тут бегали, превращали дом в сумасшедший дом, и вдруг никого нет, тихо, спокойно. Еще вчера ты мечтала о том, чтобы посидеть в тишине, а сейчас тишина на тебя страшно давит, и тебя это ужасно тяготит. Поэтому лучше все поменять. Обстановку, все. Я, как правило, уже примерно предполагаю, когда все закончу, и намечаю себе поездки. Поэтому мы с мужем на следующий день или через день отправляемся ˂в путешествие˃. Чем дальше – тем лучше.
А любите новые места? Или те, где вы уже бывали?
Мир такой большой, поэтому я стараюсь посмотреть что‑то новое. Сейчас с возрастом я уже хуже стала относиться к длительным перелетам. Если раньше я с удовольствием летала в Латинскую Америку, и куда только не летали, то сейчас при мысли «12 часов в этой консервной банке где‑то над облаками» уже начинаешь думать, может быть, куда‑то поближе. Я хочу сказать, что это не обязательно где‑то далеко. Мы очень любим путешествовать на машине. Я, например, очень люблю наши российские монастыри. И у нас есть совершенно уникальные места. И даже ехать иногда далеко не нужно.
Совершенная правда.
Я, например, всю жизнь прожила во Владимирской области, я сама из Владимира, и мне казалось, что я вроде бы все знаю. Потому что любопытно. А тут отправились с мужем, есть такой город Касимов, это уже Рязанская область. И по дороге встретили город Гусь Железный. Я о нем слышала, но как‑то краем уха. На слуху – Гусь Хрустальный. И вдруг Гусь Железный. И там стоит церковь, огромный храм, как будто его взяли из Тосканы и перенесли в Среднюю полосу России. Я была в таком недоумении – как вдруг, откуда. Мне, естественно, стало очень интересно, каким образом такой храм, и откуда, и почему такая идея. И даже песчаник похож на итальянскую травертину. В общем, очень странно. Я принялась читать, искать, и там столько интересного, такие потрясающие истории, на два десятка исторических детективов хватит. А это маленький такой городочек. И в России таких огромное количество. Поэтому куда ни поедешь, везде что-нибудь интересное обнаружишь.
Это правда. Можно действительно отъехать недалеко и найти там потрясающие места.
Можно не тратить безумные деньги на отпуск, можно буквально в трех шагах обнаружить безумно интересное.
И сколько у вас занимает перерыв между написанием?
Две недели обязательно, а дальше – как пойдет. В этот раз я хотела отдыхать подольше. 15 декабря я отправила рукопись в издательство и думала, что до февраля ничего делать не буду, буду заниматься чем‑нибудь далеким от писательства. Но, видимо, праздники подкосили новогодние. Я еле дождалась, пока они закончатся, и, в общем, побыстрее села работать.
Некоторые писатели говорят: «У меня есть уже пять‑шесть сюжетов». У вас тоже так? Или новый сюжет приходит после написания последней книги?
У меня постоянно что‑то придумывается и если в мою сумку заглянуть… У женщины всякое можно найти, вот у меня там три‑четыре записные книжки. Я покупаю такие, мягкие, чтобы они полегче были и места не очень много занимали. И там я бесконечно что‑то черкаю. Иногда приходит интересная идея. И если раньше я все помнила, то теперь, бывает, что‑то и забуду.
Записные книжки писателя.
Да. Вот там я что‑то черкаю. Те сюжеты, которые придумались, и я их сразу не использовала, они, как правило, зависают где‑то. Если сразу не появилось у меня желание рассказать эту историю, видимо, потом что‑то перегорает, и ты к ним не возвращаешься. Я думаю, по крайней мере на десять книг там точно есть. Если вдруг моя фантазия истощится, еще какое‑то время я продержусь на старых дрожжах.
У меня была теория про музу. Если муза стучится к автору, а он в это время занят, то она идет к другому. И эту идею кто‑то другой пишет. У вас написано, разные я встречал данные, по последним – уже более 80 книг.
Да.
Это очень много. В год получается четыре…
Когда я только начинала писать, у меня был такой потрясающий кураж, я уже вам сказала, что очень много писала. То есть если писать по 25, а всего 320 страниц, то написать книгу я могла за месяц. С правкой, то есть совсем готовая книга – запросто. И писала по шесть романов в год. Но продержалась недолго. Года, наверное, три‑четыре. И стала писать по четыре романа. Вот уже много лет, наверное, 12-13, я пишу по три романа в год. И это меня очень устраивает. Как раз четыре месяца, я успеваю и поработать, и отдохнуть, и спокойно что‑то придумать. Мне это очень комфортно.
Здравствуйте!
В ушедшем году исполнилось 20 лет вашей профессиональной писательской деятельности. Расскажите, пожалуйста, если вспомнить ваше творчество 20 лет назад и сейчас, что изменилось в книгах Татьяны Поляковой, в вашем подходе к творчеству? Какие перемены?
Очень много изменилось. Прежде всего, изменилась страна, время. Мы живем уже не в той эпохе, в которой я начинала писать. В литературу я пришла в конце 90‑х, первая книжка вышла в 97‑м году. И если мы сейчас сделаем экскурс в историю, а это уже именно история, то это все еще до нашего дефолта 98‑го года. С моей точки зрения, это была совершенно другая страна. И люди были другие. Ко многому по‑другому относились, нежели сейчас. Все это нашло отражение в моих книгах. Те детективы, которые я писала в конце 90‑х, и то, что я делаю сейчас, это очень, очень большая разница.
В 90‑е годы действительно было тяжелое время. Я прекрасно их помню. И дефолт 98‑го года. В то нестабильное, сложное время писались более светлые вещи?
Да.
А в более стабильные нулевые?
А сейчас просто другое отношение. Тогда, вы правильно сказали, очень нестабильное время было, это и бесконечные переделы собственности, в связи с этим – некие персонажи, бандиты и прочие. Меня очень часто упрекали, что у меня их много. Я этот упрек переадресовывала сразу к тому, что происходит на самом деле. Какая жизнь – такая и песня. Это была не моя проблема. А сейчас детектив строится больше вокруг семейных взаимоотношений. Он в какой‑то степени ближе к тому классическому детективу, к которому мы привыкли. Сейчас, конечно, можно писать боевики по старинке. Как в 90‑х, люди бегают с пистолетами и на улицах стреляют. Но, если честно, в это мало верится. Если это где‑то и есть, то не настолько привычно для читателей, как это было в 90‑х. Поэтому, хочешь ты или нет, если следуешь правде жизни, тебе приходится меняться.
Вы закончили филфак.
Да.
У нас публика тоже в основном пишущая, пытающаяся писать стихи, прозу, многих интересует вопрос, можно ли стать писателем без филфака или без Литературного института.
Конечно, можно. Дело в том, о чем вы будете писать. Какая у вас идея, тема. Почему вы вообще приходите к необходимости писать. Для меня, например, эта необходимость должна быть обязательно. Я имею в виду не для меня как для автора конкретного, а вообще в понимании, что такое писатель. На встречах с молодыми людьми, которые хотят писать, я всегда говорю: «Если ты можешь не писать, не пиши».
То есть эта формула Льва Толстого очень точная?
Она абсолютно точная. Если человек приходит в литературу просто с желанием оставить в ней свой след, он сталкивается с большим количеством трудностей. Возвращаясь к вопросу, есть люди, которые приходят со своей темой. И они настолько ее хорошо знают, она их настолько беспокоит, тревожит и просится наружу, что, может быть, с точки зрения литературоведа, там что‑то не так, могут быть вопросы к этому писателю, но он настолько заражает своим энтузиазмом, желанием рассказать историю и своими чувствами, эмоциями, что вам, в общем‑то, не очень интересно, насколько он прав с точки зрения филологии во всем этом. Вы просто читаете историю, которая вас вдохновила точно так же, как его. То есть он смог вам это передать. Но для этого, конечно, нужно иметь талант. Как минимум.
Ну, талант. Но филфак все‑таки дает еще какое‑то ремесло, инструмент к тому, чтобы выразить…
Да. Вы знаете, никакое образование в писательстве не лишнее. Даже если вы физик‑теоретик. Любое образование всегда на пользу.
Вообще образование – не лишнее.
Причем чем больше у вас образований, тем вам в каких‑то вещах легче. Образование в первую очередь учит раскладывать все по полочкам.
Системе.
Система. Некая база, на которую вы постоянно что‑то прибавляете, прибавляете, прибавляете. И таким образом в результате получается образованный человек. Желательно не очень поздно. Хотелось бы хотя бы годам к сорока. Если нет базового образования и постоянного личного изучения вещей, которые вам интересны, тогда это очень сложно. И человек будет сталкиваться с большим количеством трудностей. Чем хорош филфак или литературное образование. Я имею в виду, там, где учат на писателя. Есть вещи, которым можно научить. Вот там, собственно, этому и учат. Идет разбор произведений. Мы видим схему, мы видим составляющие хорошего произведения. Они всегда везде одни и те же. То есть неважно, что вы пишете. Есть такая синусоида, которая показывает, если угодно, накал страстей. Вот от такой сцены, которая требует и от писателя, и от читателя большого напряжения, к более плавному. Если вы будете постоянно держать читателя в напряжении, он в конце концов устанет, ему надоест, и он займется чем‑то другим. Просто захочет передохнуть и от вас, и от своего напряжения.
Ритм должен быть.
Да. Вот всему этому можно научить. Объяснить, что такое речевая характеристика. Недавно меня молодой человек обвинил в том, что я употребила лексику, близкую к нецензурной, нецензурную я, естественно, не употребляю. А такую вот – не буду повторять слово в эфире, оно абсолютно безобидное, но ему не понравилось. И он сказал, что всегда меня уважал за то, что я без этого обходилась, и вдруг я его разочаровала. Я ему объяснила, что есть такое понятие, как речевая характеристика. Выяснилось, что он об этом не знал. То есть я прочитала такой курс лекций…
То есть персонаж иначе сказать не мог.
Конечно. Потому что или вот так, или он будет очень странный персонаж. Бомж не может говорить таким языком, каким наши депутаты Государственной Думы говорят. То есть депутат Государственной Думы, который говорит, как бомж, – это пожалуйста. А вот наоборот – это очень и очень под сомнением. Нас учили, что бытие определяет сознание. Если вы оказались в такой ситуации достаточно долгое время, вам сложно абстрагироваться от нее и вести себя исключительно интеллигентно. Вот таким вещам можно и нужно учиться. Другое дело, я не буду говорить в процентном отношении, сколько это составляет от того, что нужно писателю, чтобы быть не просто человеком, который что‑то пишет и которого иногда кто‑то читает, а чтобы быть писателем в нашем нормальном понимании – который регулярно издается, которого знают, читают, и у которого есть своя определенная читательская аудитория.
Но, смотрите, талант, образование. Но ведь очень важный момент – работоспособность.
Да.
Вы пишете каждый день? Как у вас строится работа?
Когда я сажусь за новую книгу, я работаю каждый день. И это не подневольный труд, это такая потребность. Но это у меня. Можно, наверное, себя пересиливать. Но я могу сказать, так как я с годами все ленивее и ленивее, раньше я писала, если взять уже готовую книжку, страниц 20‑25 в день. А сейчас – где‑то десять, максимум, 15. С возрастом это все уже сложнее. Или просто лень.
У вас есть какая‑то задача – вот я столько‑то знаков или страниц ˂должна написать˃?
Нет, у меня нет задачи, постранично – нет. У меня есть задача на сегодняшний день – что я хочу сделать. Есть некий видеоряд, мне надо все это быстренько записать. А потом уже, когда черновой вариант готов, я все это буду прорабатывать, буду работать с языком и т. д. На первом этапе – быстро‑быстро записать то, что я вижу. Вот посадила я двух своих персонажей, вот они начинают что‑то делать, говорить, а мне надо за ними очень быстро записать.
И как? Вот видения на сегодня закончились. Вы?
Я довольна, если, например, написала определенные сцены, которые хотела, которые я видела. И, в принципе, меня это удовлетворило, и я на сегодня перестала работать. Следующий день я начну с того, что буду перечитывать то, что написала накануне, безбожно черкать, выкидывать, а потом уже дальше. Я из тех писателей, которые не могут писать вразброс. То есть возникло у меня сегодня желание финальную сцену написать – и я ее пишу, а завтра вернусь к началу. Я так не могу. Для меня история должна развиваться так, как она в жизни. Здесь начало, вот здесь – середина, а здесь – концовка. Вот так вот я и пишу. Постепенно.
Я прочитал и отчасти порадовался, что вы пишете в тетрадях, что не признаете ни компьютер, ни печатную машинку даже. Только тетради. Да?
Да. Это привычка такая.
Карандашом, ручкой?
Гелевая ручка. Обязательно синяя. Но это уже такие, свои вещи. Тетрадка обязательно 48 листов. Пять тетрадей как раз уходит на роман. Мне это даже удобно, в том плане, что я себя корректирую. На третьей тетрадке мне уже надо выходить в пике. А когда заканчивается четвертая, уже надо понимать, что надо все подбивать и выходить на финишную прямую.
Получается, что книги по объему примерно вот такие.
Да. Они все примерно одинаковые.
А тетради эти хранятся? Есть архив?
Да. Добрые люди телевизионщики, которые периодически ˂появляются˃, обычно весной и осенью возникает идея о литературных неграх. Я должна сказать, что со мной вопрос отпал сразу, больше, по крайней мере, я не слышала ничего в свой адрес. Еще на заре 2000‑х ко мне прибыли люди на дачу, где у меня все хранится. А я такой человек, дева по гороскопу, у меня все аккуратненько, в отдельных папочках, в отдельных файликах, все подписано, когда начала, когда закончила, это тоже какие‑то личностные вещи. И я им все это показала, они посмотрели, очень расстроились, тем более что я пишу от руки. То есть, конечно, можно выдать идею, что кто‑то пишет за меня, потом я от руки переписываю в тетрадки с исправлениями. Но, по‑моему, это уже даже для самых наших продвинутых каналов откровенный бред. Поэтому меня сразу оставили в покое.
То есть миф разрушен, друзья мои. Не существует литературных негров. Во всяком случае у Татьяны Поляковой. А в принципе это возможно? Есть авторы, у которых…
Конечно, есть. Есть целая сфера в литературе. Я очень сомневаюсь, например, что какую‑нибудь книгу пишет политик. Во‑первых, это ему сложно с точки зрения литературы. Понятно, что есть помощники. Да и, наверное, тяжело ему, и времени нет. Ну это мы так, мягко. Если он действующий политик, а не на пенсии. Естественно, обращаются к людям‑профессионалам, которые это сделают грамотно. Человек рассказывает, объясняет, что бы он хотел видеть в этой книге. Большинство литературных мемуаров – это как раз...
Это более‑менее понятно. А если бы человек писал художественную литературу?
Я думаю, что тоже, наверное, есть. Есть книги, которые объединяют ряд авторов. Они пишут под одной фамилией. И, честно говоря, я не вижу в этом ничего предосудительного, если люди не лгут. Если человек выставляет на книжке одну фотографию и печатается под одной фамилией, а это группа товарищей, это не очень красиво, с моей точки зрения. А если люди заявляют себя как бригада авторов, которые работают вместе…
То есть открытый прием…
Конечно. Почему нет. Им так удобнее работать, и мы знаем и из истории литературных негров. Тот же Дюма, никто ему не ставил, по‑моему, в вину то, что он использует чей‑то труд. Он был очень плодовит по тем временам, когда не было ни пишущих машинок, ни компьютеров, элементарно переписать – и то было проблемой. А человек был очень стеснен в средствах, ему надо было торопиться во временном промежутке. Плюс он писал большие романы, то есть большие формы, по 500, по 600 страниц, двухтомники, трехтомники. Сейчас мы почему‑то обходим это стороной. Ну, это же Дюма. А кто вообще задался вопросом, какой процент написан лично им, а где с помощью кого‑то. Я думаю, это очень глупый вопрос. Потому что идея принадлежит ему. Все, что мы имеем на сегодняшний день, это все‑таки он. Несмотря на какую‑то там помощь и прочая.
Как сейчас сериалы снимают. Есть такой главный шоураннер, у него есть люди, а они воплощают его идею.
Да, да. А остальные люди – те, которые помогают и делают то, что он просто физически не успевает сделать. Я не вижу в этом ничего предосудительного, если это совершенно открыто. Дюма никогда не скрывал, что на него работает группа товарищей.
А может быть история – человек стал популярным писателем и исписался. Как в «Сталкере» есть персонаж, который исписался. Но поскольку это уже бизнес, это приносит доходы, за него продолжает кто‑то писать под этим брендом, и это не разглашается.
Это трагедия на самом деле. И избави нас, я имею в виду всю нашу писательскую братию, от такого. Потому что если человек оценивает себя как исписавшегося, то есть он готов отдать то, чем он живет, другим людям, можете представить ситуацию, в которой человек находится? Это страшно.
Это почти как своих детей отдать в другую семью.
Да. Мы с вами мыслим в одном ключе. Это практически как отдать своего ребенка кому‑то на воспитание. И сколько бы ты ни говорил, что отдаешь его в хорошие руки, что я сильно пьющий, а там хорошая семья, его поднимут на ноги и он будет благодарен, внутри‑то вы знаете, что это не так. Это очень страшная штука. Как правило, эти истории о писателях, которые больше не могут писать, они такие, драматичные. Потому что это действительно трагедия. Я думаю, что проще просто писать, например, гениальную книгу всю оставшуюся жизнь. И мы такие примеры знаем. Мы знаем, например, писателя вообще одной книги.
Да. Сэлинджер взял и замолчал потом.
Да, да, да. Мы с вами одними именами мыслим.
Один контекст. Скажите, а как вы восстанавливаетесь? Написали книгу и сразу начинаете вторую? Или, я знаю, вы любите путешествовать.
Надо обязательно куда‑то отправиться. Это опять не обязательно руководство к действию для всей пишущей братии. Я когда работаю, стараюсь от мира немножечко уединиться. Почему? Потому что, как правило, работаю восемь‑десять часов в день. И под конец набирается такая эмоциональная усталость! Потому что ты ж вкладываешься, ты ж не просто какой‑то текст пишешь. А когда приходит пора работы над черновым вариантом, я имею в виду работы непосредственно над текстом, когда ты читаешь свою книгу восемь, иногда девять раз, и бесконечно правишь, и тихо звереешь, потому что понимаешь, что все не так, все ужасно. В какой‑то момент обязательно нужно остановиться. То есть ты в очень напряженном эмоциональном состоянии плюс еще совершенно нормальная человеческая усталость оттого, что очень много времени проводишь за столом и это связано с умственным напряжением, ты просто устаешь. И вдруг в какой‑то момент все это заканчивается. Вот я, например, в два часа ночи отправила роман своему редактору, выполнила все, что хотела, а утром встала, и получается, что делать мне нечего. Вчера мне ни на что не хватало времени, а сегодня у меня его безумное количество. И это очень странно. Это, знаете, как дети уезжают из дома. Вот они у тебя тут бегали, превращали дом в сумасшедший дом, и вдруг никого нет, тихо, спокойно. Еще вчера ты мечтала о том, чтобы посидеть в тишине, а сейчас тишина на тебя страшно давит, и тебя это ужасно тяготит. Поэтому лучше все поменять. Обстановку, все. Я, как правило, уже примерно предполагаю, когда все закончу, и намечаю себе поездки. Поэтому мы с мужем на следующий день или через день отправляемся ˂в путешествие˃. Чем дальше – тем лучше.
А любите новые места? Или те, где вы уже бывали?
Мир такой большой, поэтому я стараюсь посмотреть что‑то новое. Сейчас с возрастом я уже хуже стала относиться к длительным перелетам. Если раньше я с удовольствием летала в Латинскую Америку, и куда только не летали, то сейчас при мысли «12 часов в этой консервной банке где‑то над облаками» уже начинаешь думать, может быть, куда‑то поближе. Я хочу сказать, что это не обязательно где‑то далеко. Мы очень любим путешествовать на машине. Я, например, очень люблю наши российские монастыри. И у нас есть совершенно уникальные места. И даже ехать иногда далеко не нужно.
Совершенная правда.
Я, например, всю жизнь прожила во Владимирской области, я сама из Владимира, и мне казалось, что я вроде бы все знаю. Потому что любопытно. А тут отправились с мужем, есть такой город Касимов, это уже Рязанская область. И по дороге встретили город Гусь Железный. Я о нем слышала, но как‑то краем уха. На слуху – Гусь Хрустальный. И вдруг Гусь Железный. И там стоит церковь, огромный храм, как будто его взяли из Тосканы и перенесли в Среднюю полосу России. Я была в таком недоумении – как вдруг, откуда. Мне, естественно, стало очень интересно, каким образом такой храм, и откуда, и почему такая идея. И даже песчаник похож на итальянскую травертину. В общем, очень странно. Я принялась читать, искать, и там столько интересного, такие потрясающие истории, на два десятка исторических детективов хватит. А это маленький такой городочек. И в России таких огромное количество. Поэтому куда ни поедешь, везде что-нибудь интересное обнаружишь.
Это правда. Можно действительно отъехать недалеко и найти там потрясающие места.
Можно не тратить безумные деньги на отпуск, можно буквально в трех шагах обнаружить безумно интересное.
И сколько у вас занимает перерыв между написанием?
Две недели обязательно, а дальше – как пойдет. В этот раз я хотела отдыхать подольше. 15 декабря я отправила рукопись в издательство и думала, что до февраля ничего делать не буду, буду заниматься чем‑нибудь далеким от писательства. Но, видимо, праздники подкосили новогодние. Я еле дождалась, пока они закончатся, и, в общем, побыстрее села работать.
Некоторые писатели говорят: «У меня есть уже пять‑шесть сюжетов». У вас тоже так? Или новый сюжет приходит после написания последней книги?
У меня постоянно что‑то придумывается и если в мою сумку заглянуть… У женщины всякое можно найти, вот у меня там три‑четыре записные книжки. Я покупаю такие, мягкие, чтобы они полегче были и места не очень много занимали. И там я бесконечно что‑то черкаю. Иногда приходит интересная идея. И если раньше я все помнила, то теперь, бывает, что‑то и забуду.
Записные книжки писателя.
Да. Вот там я что‑то черкаю. Те сюжеты, которые придумались, и я их сразу не использовала, они, как правило, зависают где‑то. Если сразу не появилось у меня желание рассказать эту историю, видимо, потом что‑то перегорает, и ты к ним не возвращаешься. Я думаю, по крайней мере на десять книг там точно есть. Если вдруг моя фантазия истощится, еще какое‑то время я продержусь на старых дрожжах.
У меня была теория про музу. Если муза стучится к автору, а он в это время занят, то она идет к другому. И эту идею кто‑то другой пишет. У вас написано, разные я встречал данные, по последним – уже более 80 книг.
Да.
Это очень много. В год получается четыре…
Когда я только начинала писать, у меня был такой потрясающий кураж, я уже вам сказала, что очень много писала. То есть если писать по 25, а всего 320 страниц, то написать книгу я могла за месяц. С правкой, то есть совсем готовая книга – запросто. И писала по шесть романов в год. Но продержалась недолго. Года, наверное, три‑четыре. И стала писать по четыре романа. Вот уже много лет, наверное, 12-13, я пишу по три романа в год. И это меня очень устраивает. Как раз четыре месяца, я успеваю и поработать, и отдохнуть, и спокойно что‑то придумать. Мне это очень комфортно.
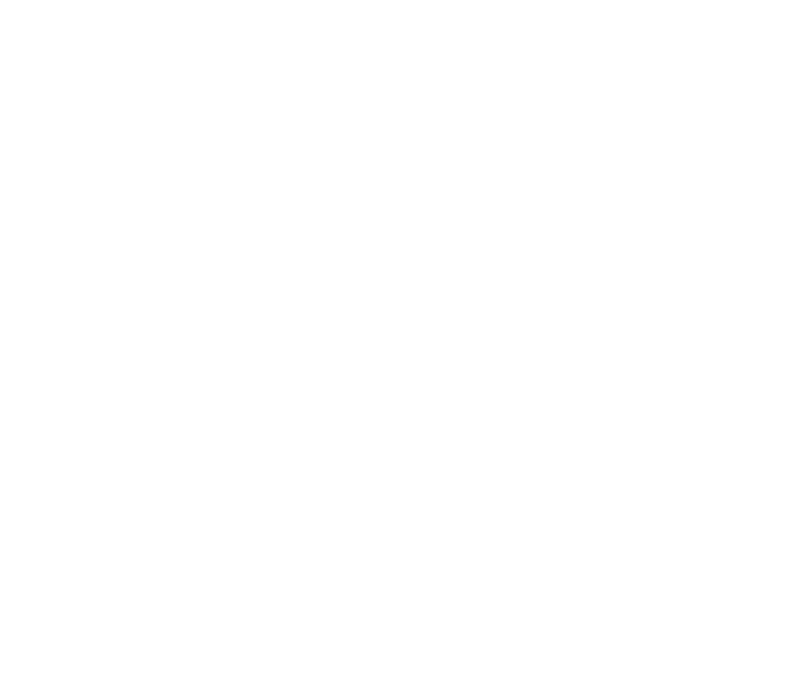
Есть такое мнение, что сначала писатели пишут много, такой период неофитства, а потом пишут меньше, но лучше. Вот вам как кажется?
Я надеюсь. Но это уже не мне судить. Во‑первых, это все связано с возрастом. Сколько бы мы от этой темы ни уходили, все равно, с возрастом у человека иногда нет даже не физических сил, а духовных. Ты уже не можешь настолько эмоционально откликаться на какие‑то вещи. А без эмоций писатель – ну а как это? Поэтому иногда приходится ждать, чтобы что‑то произошло в тебе. Конечно, есть такие вещи, которые ты про себя знаешь, что тебя подталкивает. Я, например, когда знаю, что у меня будет какая‑то очень тяжелая сцена или, наоборот, предположим, любовная сцена, мне надо подготовиться, я себя настраиваю определенным образом. Я, например, очень люблю музыку слушать. Безотказно – это Верди. «Травиату» я 150 раз слушала, и 150 раз в определенном месте…
Я обожаю «Травиату»...
В определенном моменте я все равно заплачу. Муж надо мной смеется, когда мы в театр идем в очередной раз, говорит: «А ты сегодня плакать будешь?» – «Да нет, конечно». И что – все равно, третье действие – и все. Это нормально. Каждый знает, как в себе эти эмоции настроить. Тогда, если повезет, все складывается, и приходят нужные слова, и ты видишь так, как нужно. И получается хорошая сцена. Вот недавно меня мой редактор похвалила за хорошую сцену. Сказала, что очень лаконично, ничего лишнего, но пробирает. Я услышала, как Трамп о себе сказал, что он устойчиво гениален в ответ на какие‑то поползновения по поводу его психического состояния и прочая. Мне эта фраза очень понравилась, и я теперь про себя говорю, что я устойчиво гениальна.
По поводу редактора я тоже хотел узнать. У вас один редактор, с которым вы работаете?
21 год у меня один редактор. Мне бесконечно повезло в этом плане. И не только мне. Это редактор Дарьи Донцовой, Тани Устиновой. И мы ей бесконечно благодарны и признательны – мало того, что этот человек – очень крутой профессионал, а она еще и человек очень хороший. За эти годы у нас получился не только очень хороший тандем, но еще и очень дружим.
А какова роль редактора? Он просто находит где‑то неточное слово или он вообще может предложить…
Задача редактора какая? – Сделать лучше. Когда человек работает, погружен в историю, в работу, он иногда может не видеть очевидных вещей.
Лицом к лицу лица не увидать. Такой взгляд со стороны?
Конечно. А вот когда книжка вышла, и ты уже отошел от нее… Я ее отправила 15 декабря, а книжка выйдет в конце февраля, в марте. Я за это время уже начну работать над другой историей, уже отойду от нее. Уже буду способна более‑менее спокойно взглянуть на все это относительно, со стороны, скажем так, насколько это вообще возможно, конечно, – абстрагироваться от того, что ты сделал. Но достаточно объективно. И тогда все видно.
А вы перечитываете свои книги?
Конечно. Обязательно. Как только выходит, смотрю. Иногда прихожу в ужас – ну как это возможно? А редактор – естественно, он не может вторгаться в то, что называется стиль, литературный замысел, это не его работа. Но он всегда может показать, высказать свое мнение, удержать от какой‑то глупейшей ошибки. И, конечно, это просто работа по тексту. Я не буду уже говорить про смешные варианты, когда: «Марь Иванна идет по лестнице, вспоминает своего отца и думает: да, Василь Петрович был большой ходок» (смеются). К сожалению, такое у авторов встречается. Он где‑то себе сделал заметку, потом поменял отчество героини и счастливо про это забыл. Так что редактор должен смотреть еще за тем, чтобы, выражаясь молодежным сленгом, автор не накосячил.
Потрясающе, 21 год с одним редактором. Видимо, действительно уникальный профессионал.
Это просто большое везение и большое счастье, что мы встретились. Моя огромная благодарность. Мне всегда было с ней легко, мы всегда на одной волне, прекрасно друг друга понимаем. Уж не знаю, как ей со мной легко, но мне с ней – однозначно.
Если вернуться к тому, как все начиналось, я думаю, не все наши телезрители знают такой интересный факт, что после того как закончили филфак, вы устроились в детский сад и проработали там воспитательницей 14 лет. Это хороший срок, серьезный.
Моя педагогическая деятельность связана, скорее, с теми реалиями, которые нам жизнь предлагает. Тогда, как и сейчас, была большая проблема устроить ребенка в детский сад. Я не планировала работать в детском саду, но 14‑го я защитилась, а 26‑го родила. И осталась без распределения, как тогда было, тогда нас еще распределяли куда‑то. А так как меня было затруднительно – я замужем, в положении, сказали – поезжай, куда хочешь, делай, что хочешь, и я вернулась в родной Владимир. И, посмотрев по сторонам, поняла, что ребенка мне надо устраивать самой. Никто в этом плане не спешит меня осчастливить и предоставить детский сад. Поэтому я пошла в ближайшее детское учреждение, которое было на соседней улице. Пришла, сказала – вот я такая‑то, такая‑то, возьмите меня, пожалуйста, работать и ребенка моего. Мы с заведующей договорились, что она меня возьмет на полгода. Я пришла. И мне так понравилось, что не видела ни необходимости и вообще не представляла, что я куда‑то уйду от своих детей. Поэтому 14 лет я спокойно там проработала. И, я вас уверяю, если бы у меня не стояло выбора, а выбор, естественно, встал после первой напечатанной книги, я бы так и работала спокойно.
Я считаю, это замечательная женская работа. И единственным ее недостатком является то, что за нее очень мало платят. Поэтому там очень мало людей, которые приходят работать за идею. Это, кстати, тоже очень большая проблема, мы вот декларируем везде и всюду, что все лучшее у нас для детей. А на деле получается, что все худшее у нас для детей. Когда ты платишь человеку вот такую зарплату, ожидать, что пойдут умные, талантливые, способные и устойчиво гениальные, затруднительно. Человеку все‑таки хочется жить достойно и своих детей поднимать. Поэтому он пойдет искать себе место под солнцем. И работать там из устойчиво гениальных будут только те, у кого нет проблем с содержанием. Так было у меня. У меня муж очень хорошо зарабатывал. Я могла себе позволить заниматься чем я хочу без оглядки на то, сколько мне за это заплатят. И так счастливо получилось, что у нас был коллектив вот таких энтузиастов. У нас был замечательный детский сад, прекраснейшие в мире дети, и эти 14 лет для меня – просто очень хорошее время.
А для детей вы какие‑то истории сочиняли, рассказывали им, придумывали?
Ну конечно. Дети, они же сами что угодно сочинят, расскажут. Чем хороша работа с детьми, неважно, работаешь ты в детском саду, школе, высшем учебном заведении, вот когда ты с молодыми, ты не расслабляешься. Тебе всегда надо быть в тонусе. Потому что тебя маленький замучает вопросами. И тебе надо на них ответить. И иногда вопросы очень серьезные. Которые заставляют тебя самого очень в себе покопаться, подумать, поразмышлять. Когда тебе пятилетка задает вопрос: что такое милосердие? Тебе надо собраться и объяснить. Потому что это не доброта. Это не желание помочь людям. И объяснить так, чтобы ребенок понял. И желательно еще по ходу с ним поговорить, почему это так, а не по‑другому. И вот тогда вырастают взрослые интересные, и серьезные, и порядочные люди. Чтобы был Пушкин, рядом где‑то должен быть Жуковский. Если совсем просто.
И Арина Родионовна.
И Арина Родионовна обязательно. Понятно, что Пушкин в любом случае будет Пушкиным, но он потратит очень много сил и времени не на то. А вот такие люди как раз и есть для того, чтобы гений появился. Это очень важно. Я очень радуюсь, когда создают какие‑то детские центры, когда с детьми занимаются серьезно. Всегда надо помнить, что ребенок – это человек, просто маленький. С ним нельзя разговаривать, как с умственно отсталым, потому что он маленький. С ним нужно разговаривать, как с человеком. Просто иметь в виду, что он какие‑то вещи воспринимает немножко не так, как ты. И необходимость – всегда иметь это в виду и разговаривать на равных, но с опережением. Ты должен быть, как минимум, мудрее. Это дает колоссальный душевный полет, потому что тебе не дают состариться. Твоей душе, твоему уму, если угодно, и телу, потому что если ты работаешь с детьми, ты бегаешь и скачешь зайчиком до 50 лет, и это достаточно сложно, если ты физически себя не поддерживаешь. Если ты работаешь с молодыми в высшем учебном заведении, то тебе, как минимум, неловко там быть не в тонусе. В конце концов девушки красивые там ходят каждый день перед тобой. Или, наоборот, молодые люди, и тебе как‑то хочется соответствовать, не быть рядом с ними бабушкой или дедушкой. Поэтому это замечательные профессии.
Ну а как книги появились? Первую историю вы помните? Как она возникла? Сюжет?
Я писала, сколько себя помню. Мама у меня хранит рассказ, написанный классе в четвертом. Где‑то, наверное, класса с седьмого я начала писать длинный, бесконечный роман, бросила его, потом начала другой, то есть я не помню себя не пишущей. У меня был очень маленький промежуток, когда я не писала. Это когда родился сын. Мне просто было некогда. И я была настолько в ребенке, в том, что он так во мне нуждается, и я, конечно, безумно в нем нуждаюсь, вся жизнь была вокруг него, как, в принципе, у всех молодых родителей. А как только ребенок пошел в детский сад и стал более‑менее самостоятельным, то есть мне было уже не страшно оставить его с воспитателем на семь‑восемь часов, так сразу же я начала что‑то там писать. Другое дело, что я тогда писала а-ля Чак Паланик, и мне всегда нравилось такое направление. Мне казалось, что я устойчиво гениальна, уж коли мне понравилась эта фраза Трампа, и мне казалось, что я делаю что‑то новое, интересное. Ну а потом как раз начала просачиваться литература такого типа. До этого же мы в основном читали наших, как сказать, людей, которые мыслили примерно так же, то есть либо классика, либо те писатели, которые у нас считались, как сказать, мыслящими правильно. Но Чак Паланик, конечно, мыслил неправильно. Это однозначно. Поэтому он к нам какими‑то тайными тропами пробирался и пробрался ко мне позднехонько.
Когда я его прочитала, я была потрясена, и он до сих пор один из моих любимых писателей. Но я поняла, что все, что я делаю, это ерунда, потому что я изобретаю велосипед, а люди уже делают это лучше меня. И очень давно делают. Поэтому, с одной стороны, это был момент открытия и просветления, а с другой, это был удар. Я поняла, что писать хуже или писать плохо, не хочу. Поэтому надо делать что‑то другое. А что, я не знала. И в то время у нас детективная литература была в не очень веселом состоянии. В каком плане? Очень мало авторов работало в этом жанре. На слуху братья Вайнеры, Юлиан Семенов, еще два‑три автора, Леонов, конечно. И все, собственно. Мы с вами мучительно будем набирать десять фамилий из тех, кто работал в советское время. Я не рассматривала этот жанр, хотя всегда очень любила детективы. Очень много читала зарубежных и наших. И вдруг этот бум девяностых, когда в детектив пришло очень большое количество авторов. И я с таким удовольствием покупала книги наших именно, российских авторов, просто стопками по семь‑десять книг. Я приходила с такой радостью, вот я сейчас почитаю. И очень многое мне не нравилось. Потому что время было не очень веселое, и люди ему соответствовали. И я поняла, что мне как читателю вот в этой не очень симпатичной окружающей меня картинке хочется прямо противоположного, хочется, чтобы было весело, задорно, никакого сурьезу, чтобы все было очень оптимистично и под конец – миллион долларов и самый красивый мужчина, и вообще все хорошо. Я думаю, это был такой внутренний протест против того, что тогда виделось серо, уныло, и люди не знали, куда мы вообще идем. У очень многих была мысль: мы остаемся, уезжаем, что дальше? Я помню, у меня многие друзья в буквальном смысле слова сидели на чемоданах. И мы уже оглядывались и думали, ну а чего делать‑то? Мне было это все, что по‑русски называется опричь души, и я посильно сопротивлялась.
И вас сразу, у нас любят клейма, окрестили: ˂пишет˃ иронический детектив, сразу стали сравнивать с Иоанной Хмелевской.
Да.
Вам это льстило? Вас это обижало, как любое сравнение авторов? Как вы к этому относились?
Никоим образом не обижало. Если бы меня сравнили с автором, который мне не симпатичен или я плохо к нему относилась. Но я вообще ко всей пишущей братии отношусь очень хорошо, потому что знаю, чего стоит написать книгу, которую прочитают хотя бы, ну, не знаю, тиражом в 5000, то есть 5000 потенциальных читателей. Что нужно для этого сделать – надо вывернуть себя наизнанку, как минимум. Поэтому я с колоссальным уважением отношусь к авторам вообще. А Иоанну Хмелевскую я очень любила и люблю, хотя на самом деле у нее два хороших романа. Но они настолько хороши, что я считаю, она обессмертила себя двумя произведениями, и вопросов никаких нет.
А это сравнение вам казалось точным?
Нет. Конечно, нет. Пани Иоанна никогда не ходила по острию, а мои персонажи всегда были готовы шагнуть туда или сюда, они всегда на грани. И это мне очень симпатично. У нее всегда главный персонаж – хорошая женщина с золотым сердцем в трудной жизненной ситуации. Там нет никаких вопросов к ее, я не имею в виду нравственную составляющую, она может иметь массу любовников или еще что‑то, но как человек…
Но сердце доброе…
Да. Сердце доброе. А мне всегда было интересно то, что в американской литературе называется «плохой хороший парень». Когда человек, такой, сомнительный, выполняет роль положительного героя. Мне это всегда было интересно.
Но это очень близко и для русской литературы – плохой хороший человек.
Конечно, это наш…
Я знаю, что вы Достоевского любите.
Да, да, да. Вот как раз к нему и возвращаемся. Американцы, конечно, безбожно эксплуатируют этот типаж, иногда он уже просто раздражает, но на нашей русской почве он вполне гармоничен, потому что наша жизнь диктует какие‑то такие вещи. Не зря у нас пословица: от сумы и от тюрьмы… и прочая. У нас всегда было своеобразное отношение к разбойникам. Если англичане могут похвастаться своим Робином Гудом, у нас их целая плеяда, и Кудияр, и я уж не буду говорить про Степана Разина, который побил все рекорды популярности. Даже Пугачев ему однозначно уступает. То есть у нас своеобразное отношение к людям, которые асоциальны. Они протестуют против того, что происходит вокруг них, и протест бывает иногда такой, что называется, на грани. Мы это прощаем за лихость, за доброту, за то, что называется русским характером – такая душевность и прочая. То есть на что‑то мы готовы не обращать внимание. Я это хорошо знаю и потому тоже безбожно этот тип эксплуатирую.
А потом возникло понятие «авантюрный детектив». Что‑то поменялось? Почему от иронического до авантюрного?
Просто люди поняли, что не стоило изначально меня сравнивать с Хмелевской. Подмены одного другим быть не должно. Потому что изначально я писала как вещи, которые можно условно назвать ироническим детективом, так и вещи, которые очень сложно назвать ироническим детективом. Одна из моих ранних вещей – там женщина спасает мальчика, который стал свидетелем убийства, и за ним ведется охота. А она – обыкновенная девушка-художник, иллюстратор детских книжек. И представляете, она оказывается в гуще этих жутких бандитских разборок. Плюс она сама еще только‑только вышла из детского возраста. А на шее у нее – такой подросток неуправляемый, уличный мальчишка, вольный, который в принципе о жизни знает больше, чем она. И это было очень интересно – проследить, как они притираются, как находят дорогу друг к другу, как она становится мудрее, как он начинает по‑другому смотреть на этот мир. Этот этап сближения одного человека с другим был мне безумно интересен. Детективная составляющая была там уже как фон для того, чтобы показать вот это все. Так как я тогда еще только‑только ушла из воспитателей, мне этот момент был гораздо более интересен, чем кто там главный злодей и прочая. И назвать ее ироническим детективом можно было, конечно, только не прочитав.
Я никогда не спорю ни с кем. Считаю, это пустая трата времени. И я просто делала свое дело, как я это считаю нужным. Когда у меня вышла книга «Любовь очень зла» – очень жесткая история, там нет положительных персонажей. Говоря по‑простому, все плохие. И она еще с элементами садо‑мазо, все это очень наворочено. Но после этого назвать меня ироническим автором можно было только в порядке бреда. Поэтому стали думать, а как же все то, что я делаю, можно назвать. И пришла идея, что это авантюрный детектив. Я с этим согласилась. Что такое авантюрный детектив? Это предполагается, что главный герой – авантюрист. Все мои главные герои – это люди, которые к полиции не имеют никакого отношения. Но они при этом расследуют убийства. Что это, как не авантюра – влезать в расследование, когда ты понятия не имеешь, как это происходит и что тебя ждет в конце? Условно они, конечно, авантюристы. И условно это, конечно, авантюрный роман. Хотя если рассуждать с точки зрения литературоведения, что такое авантюрный роман? Это очень узко специализированный жанр, и по большому счету к тому, что делаю я, он тоже отношения не имеет. У меня есть чисто авантюрный роман, тоже очень старая вещь «Чего хочет женщина». Вот его можно назвать авантюрным романом. А все остальное – условно.
А меня вот какой момент очень интересует. Вы начинали писать, и вы об этом говорили, для себя. Потом приходит успех. Довольно быстро, первая экранизация у вас появилась через два года после издания первой книги…
Да.
Приходит успех. Насколько автор, вот вы, становится заложником успеха, читателей? У вас читателей 36 миллионов. Ведут ли автора читатели куда‑то, «мы хотим вот так вот»? Или автор продолжает писать только так, как считает нужным, пишет все равно для себя?
Это же зависит от характера человека. Есть люди, которые поддаются этому внешнему давлению. И мы такие вещи знаем. Фицджеральд, например, пытался, когда приехал в Голливуд, писать сценарии. Ничего из этого хорошего не вышло. Потому что он с одной стороны пытался быть Фицджеральдом, а с другой – пытался написать сценарий, который за дорого продаст. Как правило, когда человек вот так вынужденно балансирует, ничего хорошего из этого не получается. Поэтому я думаю, что у всех по‑разному.
А как у вас?
У меня – нет. Я хочу сказать, что прежде всего спасает писателя в плане популярности. Писатель – это все‑таки человек, который бо́льшую часть своего времени проводит наедине с собой в своем собственном кабинете. Мы все‑таки не звезды экрана и шоу‑бизнеса. Необходимости тесного контакта со зрителями, почитателями нет. Сейчас это легче в том смысле, что появились соцсети, где ты читаешь свежие отклики, вот человек прочитал и сразу тебе написал. Но еще десять лет назад этого не было. И догадываться, что ты интересен и прочее, ты мог только по тиражам. Тиражи растут, а не падают, книги покупают – значит, ты молодец. Ну и встречи с читателями, на которых тебе что‑то говорят или не говорят. Как правило, критики такие жанры, как детектив, любовный роман, фэнтези, счастливо обходят, считая недостойными своего пера и т. д. Поэтому какой‑то серьезной критической литературы я у нас о детективах не читала и не видела. Как правило, это такая отсебятина: «Да, я не люблю. Это плохо». Естественно, такие отзывы мне ничего не дают. А я не люблю, например, Толстого. И что? Толстой плох?
Когда готовился к передаче, читал отзывы на вашем сайте. Такие теплы отзывы!
Это вам повезло.
Может быть. Одна девушка пишет: «Убили героя. Как так? Как могли? Так хочется светлого. А там все погибают». И самая распространенная просьба – это продолжение. Когда выйдет. Выйдет ли? Вот как у вас? Есть же романы, которые не имеют продолжения. Есть серии. Как они рождаются? Так полюбился герой?
Ни одна из серий не замысливается изначально – вот я пишу роман, это начало новой серии, там я дальше буду развивать. Нет. Я чуть‑чуть объясню, как я работаю. Я всегда иду от истории. Придумывается история, которая мне очень интересна. И я хочу ее рассказать. Я думаю, хожу, она у меня в голове крутится туда‑сюда, я нанизываю, нанизываю какие‑то ˂детали˃, как бисер вот она получилась. Я уже знаю ее, хочу рассказать, она просится наружу. Теперь мне надо подумать, кто у меня там будет действовать. Герои в этой истории должны выглядеть органично – почему они, а не кто‑то другой. Вот они пришли, я их вижу, вот так они одеваются, так ходят, так общаются – я все с ними поняла. Получилась книга. В следующий раз начинаю работать, и вот тогда, это не так часто, серий у меня семь или восемь всего на большое количество романов, я понимаю, что у меня этот герой уже есть. Придумалась история, чего же мне опять писать точно такого. Во‑первых, это не интересно ни мне, ни публике. А этот персонаж уже есть. Значит, я спокойненько его беру и адаптирую к той истории, подбираю хвосты, которые у меня возможно остались из предыдущей книжки, чтобы он не выглядел, как черт из табакерки вдруг выскочил, а чтобы это было логичное продолжение истории, которую я рассказываю. Иногда получается так, что он очень настойчив. Или она. И кочуют из романа в роман. Больше восьми книг с одним героем у меня еще не было. Это мой личный рекорд. И я считаю, что больше не надо. За восемь книг ты уже все расскажешь про персонажа. Иначе это будет сказка про белого бычка.
А сложно называть? Имена персонажей легко приходят? И профессии?
Это очень сложно. В каком плане. Для меня имя уже рождает какой‑то облик. Имя важно. И фамилия. Мне надо, чтобы я его увидела четко, ясно, как вас сейчас, мне надо знать, как его зовут, а потом я буду думать, а чем вот он такой, с таким характером, может заниматься. Есть у меня такая серия как раз, называется «Таинственна четверка», немножко мистическая, такое детективное агентство, где собирается довольно странная публика – девушка‑экстрасенс, молодой человек‑хакер, бывший военный, который отвечает за всю оперативную работу, и главный над ними над всеми – некто Бергман. Уже фамилия такая нестандартная, зовут его Максимилиан, и весь он такой, с двойным дном и непонятно вообще что. И я думала, ну а кем он может быть в реальной жизни? Понятно, что он руководит этим странным агентством, а кем он может быть? А там еще такая предыстория, что герои в одной из прежних жизней дали страшную кровавую клятву, что встретятся вот здесь вчетвером, у них миссия. Первая книга так и называется «Миссия свыше». И я думала, а кто он у меня будет вот с таким шлейфом, у него куча прошлых жизней, и везде он чем‑то занят. Я очень долго думала, пока в Италии не набрела на совершенно очаровательный букинистический магазин. Я вошла. А там мало того, что книг безумное количество, там еще какие‑то глобусы, астролябии, банки с неизвестно чем. И все это вперемешку и безумно интересно. Я провела там полдня. И когда вышла, поняла, кем у меня будет Бергман. Он, конечно, будет владельцем вот такого магазина. И как только это пришло, все остальное моментально срослось. Я его увидела совершенно ясно, он мне стал абсолютно понятен – чем он занимается, как живет, где дышит, и все моментально встало на свои места. Поэтому это очень важно.
Иногда мне кажется, вот я назвала героя правильно, а потом чувствую какой‑то дискомфорт. Вот не могу его так называть и все. Иногда это бывает уже на первой, на второй тетрадке. И я чувствую, что нет. И как только меняется имя, очень многое меняется в повествовании. То есть приходится и возвращаться назад, и переписывать, и передумывать. Это очень живой процесс. С одной стороны, он очень сложный, потому что ухватить эти хвосты, когда что‑то приходит. Я просто из любопытства много раз пыталась ˂поймать, ухватить˃, как вообще идеи приходят в голову? Мне было интересно просто себя поймать. Вот в какой момент? Ты все равно не в состоянии это сделать. Она к тебе приходит более‑менее готовая. А вот сам момент возникновения – это всегда так неожиданно, так интересно. И уже за это я безумно люблю свою профессию и очень благодарна, потому что жизнь она безусловно украшает.
Давайте представим фантастическую ситуацию – строится новый Ноев ковчег, туда можно взять ограниченное количество книг. И вот к вам приходят и говорят: «Татьяна Полякова, от вас три книги». Какие свои три книги вы возьмете?
Свои? Ну, во‑первых, я бы, конечно, Библию взяла, да простят меня…
Нет, вот свои.
Да, я поняла. Вот если б можно было, я бы, конечно, ее. Потому что она, да простят меня верующие люди, Библия – уникальная вещь, там есть все, и детектив, и любовный роман, и приключенческий, и военный роман, и вообще все, что мы потом уже две тысячи лет пишем. Там все это уже есть, и это классно. Я сама многими историями пользуюсь. Любимая моя – история Самсона и Далилы, я по‑разному ее варьирую, но безбожно эксплуатирую вот уже двадцать лет. Потому что супер-история.
Ну да, и весь нуар на ней держится…
Прекрасная история великой любви. Еще у Шекспира: «…нет щита на любящей груди».
История роковой женщины…
Необязательно, может быть, мужчины. Спокойно меняется местами. Главная идея – вот этого щита на любящей груди, которого нет, и ты все принимаешь на себя. А свое. Вы меня вынуждаете сказать, какие романы я считаю наиболее удачными. Я не буду говорить этого, иначе получится, что все остальные – как бы неудачные.
Это ваше право, как любит говорить Владимир Владимирович Познер. Хорошо. А был роман, который тяжелее всего давался?
Парадокс в том, что иногда ты пишешь очень мучительно, а получается очень хорошая, слаженная и в хорошем смысле легкая вещь. Иногда ты пишешь легко, просто летишь, а получается не очень. Очень редко, когда ты летишь и получается хорошо. Это, конечно, идеал писательской работы. Но это, я уже сказала, очень редко бывает. А так вообще, как сказать, складывается по‑разному.
Мне тоже кажется, что чем тяжелее что‑то дается талантливому человеку, тем…
Вы знаете, здесь еще вопрос, какая вещь и что ты вкладываешь. Есть вещь просто по сюжету очень сложная. Когда с героями происходят тяжелые события. Ты же абсолютно все, что происходит, пропускаешь через себя, потому что по‑другому невозможно. Ты вместе с ними страдаешь, переживаешь. Причем это касается не только положительных героев. Это касается всех героев, они говорят с этим миром через меня. То, что называется «устами мертвых», в данном случае теми, кто не может сказать сам. Вот я должна говорить за них, причем даже за какого‑то маньяка, негодяя и прочее. Я все равно какую‑то часть себя вынуждена ему отдать. И это иногда очень тяжело, болезненно. Иногда ощущение, что мир сжимается до такой степени, что на тебя давит.
А вы суеверный человек? Есть темы, которые вы никогда не возьмете?
Конечно. И они совершенно очевидны. Тем более для женщины. Никаких жутких пыток с описанием. Если это нужно по сюжету, бывает такое, значит, это будет очень поверхностно, я имею в виду, буквально несколько слов. Люди не идиоты и понимают, что…
Это, кстати, иногда даже воздействует сильнее.
Да. В гестапо не сахар. Достаточно сказать, куда человек попал, и, кстати, сравнить с той замечательной в кавычках организацией. И уже все понятно, что человека там ожидает. Естественно, все, что касается детей. Это табу. И опять‑таки если это очень и очень необходимо, значит, это будет максимально деликатно. Все, что касается женщин. Я считаю, что женщина не обязана быть доброй, красивой, любящей и прочее. Как мужчина не обязан быть героем. Но мужчина‑трус – это некрасиво, во всяком случае воспринимается как‑то так. Не по‑мужски это, согласитесь. Точно так же злая женщина, злобная, жестокая – это как мужчина‑трус. Это все есть, но это не комильфо. Я всегда о таких вещах помню.
Как называется ваш последний роман и о чем он?
Книжка выйдет в конце февраля, начале марта. Называется «Свой, чужой, родной». Книжка об интуиции. О том, что есть люди, которые доверяют интуиции, а есть, которые на нее не реагируют. Роман о том, как девушка доверяет своей интуиции. Вот стоит дом. Обычный. В центре города областного. У меня действие всегда происходит в областном городе. Не в Москве, не в Питере, а в типично российском, от Владимира и до Владивостока. Неважно где, но это примерно полумиллионное население. Это важно для…
Сужаете круг…
Да. Сужаю. Потому что есть моменты, которые в большом городе невозможны. Вариант встречи. Конечно, в Москве мы тоже случайно встречаемся, но, согласитесь, найти человека, которого ты один раз случайно увидел, в мегаполисе достаточно сложно. В полумиллионном городе это проще. Так вот я хочу сказать, что здесь, в центре города, – обычный особняк. И девушка каждый вечер, отправляясь на пробежку, идет мимо, и что‑то ее в этом доме привлекает. Она смотрит и думает, каждый раз идя в парк и возвращаясь, что с домом что‑то не так. Все над ней смеются, что она Стивена Кинга начиталась. Ее друзья говорят: «Ну, дом, как дом. Не живет там никто, ну, мало ли что там. Ставнями закрыто». А она вновь и вновь к нему возвращается. Она чувствует, что в доме что‑то не так, гнет свою линию. И в конце концов оказывается права: с домом что‑то не так. Роман детективный, конечно.
Я надеюсь. Но это уже не мне судить. Во‑первых, это все связано с возрастом. Сколько бы мы от этой темы ни уходили, все равно, с возрастом у человека иногда нет даже не физических сил, а духовных. Ты уже не можешь настолько эмоционально откликаться на какие‑то вещи. А без эмоций писатель – ну а как это? Поэтому иногда приходится ждать, чтобы что‑то произошло в тебе. Конечно, есть такие вещи, которые ты про себя знаешь, что тебя подталкивает. Я, например, когда знаю, что у меня будет какая‑то очень тяжелая сцена или, наоборот, предположим, любовная сцена, мне надо подготовиться, я себя настраиваю определенным образом. Я, например, очень люблю музыку слушать. Безотказно – это Верди. «Травиату» я 150 раз слушала, и 150 раз в определенном месте…
Я обожаю «Травиату»...
В определенном моменте я все равно заплачу. Муж надо мной смеется, когда мы в театр идем в очередной раз, говорит: «А ты сегодня плакать будешь?» – «Да нет, конечно». И что – все равно, третье действие – и все. Это нормально. Каждый знает, как в себе эти эмоции настроить. Тогда, если повезет, все складывается, и приходят нужные слова, и ты видишь так, как нужно. И получается хорошая сцена. Вот недавно меня мой редактор похвалила за хорошую сцену. Сказала, что очень лаконично, ничего лишнего, но пробирает. Я услышала, как Трамп о себе сказал, что он устойчиво гениален в ответ на какие‑то поползновения по поводу его психического состояния и прочая. Мне эта фраза очень понравилась, и я теперь про себя говорю, что я устойчиво гениальна.
По поводу редактора я тоже хотел узнать. У вас один редактор, с которым вы работаете?
21 год у меня один редактор. Мне бесконечно повезло в этом плане. И не только мне. Это редактор Дарьи Донцовой, Тани Устиновой. И мы ей бесконечно благодарны и признательны – мало того, что этот человек – очень крутой профессионал, а она еще и человек очень хороший. За эти годы у нас получился не только очень хороший тандем, но еще и очень дружим.
А какова роль редактора? Он просто находит где‑то неточное слово или он вообще может предложить…
Задача редактора какая? – Сделать лучше. Когда человек работает, погружен в историю, в работу, он иногда может не видеть очевидных вещей.
Лицом к лицу лица не увидать. Такой взгляд со стороны?
Конечно. А вот когда книжка вышла, и ты уже отошел от нее… Я ее отправила 15 декабря, а книжка выйдет в конце февраля, в марте. Я за это время уже начну работать над другой историей, уже отойду от нее. Уже буду способна более‑менее спокойно взглянуть на все это относительно, со стороны, скажем так, насколько это вообще возможно, конечно, – абстрагироваться от того, что ты сделал. Но достаточно объективно. И тогда все видно.
А вы перечитываете свои книги?
Конечно. Обязательно. Как только выходит, смотрю. Иногда прихожу в ужас – ну как это возможно? А редактор – естественно, он не может вторгаться в то, что называется стиль, литературный замысел, это не его работа. Но он всегда может показать, высказать свое мнение, удержать от какой‑то глупейшей ошибки. И, конечно, это просто работа по тексту. Я не буду уже говорить про смешные варианты, когда: «Марь Иванна идет по лестнице, вспоминает своего отца и думает: да, Василь Петрович был большой ходок» (смеются). К сожалению, такое у авторов встречается. Он где‑то себе сделал заметку, потом поменял отчество героини и счастливо про это забыл. Так что редактор должен смотреть еще за тем, чтобы, выражаясь молодежным сленгом, автор не накосячил.
Потрясающе, 21 год с одним редактором. Видимо, действительно уникальный профессионал.
Это просто большое везение и большое счастье, что мы встретились. Моя огромная благодарность. Мне всегда было с ней легко, мы всегда на одной волне, прекрасно друг друга понимаем. Уж не знаю, как ей со мной легко, но мне с ней – однозначно.
Если вернуться к тому, как все начиналось, я думаю, не все наши телезрители знают такой интересный факт, что после того как закончили филфак, вы устроились в детский сад и проработали там воспитательницей 14 лет. Это хороший срок, серьезный.
Моя педагогическая деятельность связана, скорее, с теми реалиями, которые нам жизнь предлагает. Тогда, как и сейчас, была большая проблема устроить ребенка в детский сад. Я не планировала работать в детском саду, но 14‑го я защитилась, а 26‑го родила. И осталась без распределения, как тогда было, тогда нас еще распределяли куда‑то. А так как меня было затруднительно – я замужем, в положении, сказали – поезжай, куда хочешь, делай, что хочешь, и я вернулась в родной Владимир. И, посмотрев по сторонам, поняла, что ребенка мне надо устраивать самой. Никто в этом плане не спешит меня осчастливить и предоставить детский сад. Поэтому я пошла в ближайшее детское учреждение, которое было на соседней улице. Пришла, сказала – вот я такая‑то, такая‑то, возьмите меня, пожалуйста, работать и ребенка моего. Мы с заведующей договорились, что она меня возьмет на полгода. Я пришла. И мне так понравилось, что не видела ни необходимости и вообще не представляла, что я куда‑то уйду от своих детей. Поэтому 14 лет я спокойно там проработала. И, я вас уверяю, если бы у меня не стояло выбора, а выбор, естественно, встал после первой напечатанной книги, я бы так и работала спокойно.
Я считаю, это замечательная женская работа. И единственным ее недостатком является то, что за нее очень мало платят. Поэтому там очень мало людей, которые приходят работать за идею. Это, кстати, тоже очень большая проблема, мы вот декларируем везде и всюду, что все лучшее у нас для детей. А на деле получается, что все худшее у нас для детей. Когда ты платишь человеку вот такую зарплату, ожидать, что пойдут умные, талантливые, способные и устойчиво гениальные, затруднительно. Человеку все‑таки хочется жить достойно и своих детей поднимать. Поэтому он пойдет искать себе место под солнцем. И работать там из устойчиво гениальных будут только те, у кого нет проблем с содержанием. Так было у меня. У меня муж очень хорошо зарабатывал. Я могла себе позволить заниматься чем я хочу без оглядки на то, сколько мне за это заплатят. И так счастливо получилось, что у нас был коллектив вот таких энтузиастов. У нас был замечательный детский сад, прекраснейшие в мире дети, и эти 14 лет для меня – просто очень хорошее время.
А для детей вы какие‑то истории сочиняли, рассказывали им, придумывали?
Ну конечно. Дети, они же сами что угодно сочинят, расскажут. Чем хороша работа с детьми, неважно, работаешь ты в детском саду, школе, высшем учебном заведении, вот когда ты с молодыми, ты не расслабляешься. Тебе всегда надо быть в тонусе. Потому что тебя маленький замучает вопросами. И тебе надо на них ответить. И иногда вопросы очень серьезные. Которые заставляют тебя самого очень в себе покопаться, подумать, поразмышлять. Когда тебе пятилетка задает вопрос: что такое милосердие? Тебе надо собраться и объяснить. Потому что это не доброта. Это не желание помочь людям. И объяснить так, чтобы ребенок понял. И желательно еще по ходу с ним поговорить, почему это так, а не по‑другому. И вот тогда вырастают взрослые интересные, и серьезные, и порядочные люди. Чтобы был Пушкин, рядом где‑то должен быть Жуковский. Если совсем просто.
И Арина Родионовна.
И Арина Родионовна обязательно. Понятно, что Пушкин в любом случае будет Пушкиным, но он потратит очень много сил и времени не на то. А вот такие люди как раз и есть для того, чтобы гений появился. Это очень важно. Я очень радуюсь, когда создают какие‑то детские центры, когда с детьми занимаются серьезно. Всегда надо помнить, что ребенок – это человек, просто маленький. С ним нельзя разговаривать, как с умственно отсталым, потому что он маленький. С ним нужно разговаривать, как с человеком. Просто иметь в виду, что он какие‑то вещи воспринимает немножко не так, как ты. И необходимость – всегда иметь это в виду и разговаривать на равных, но с опережением. Ты должен быть, как минимум, мудрее. Это дает колоссальный душевный полет, потому что тебе не дают состариться. Твоей душе, твоему уму, если угодно, и телу, потому что если ты работаешь с детьми, ты бегаешь и скачешь зайчиком до 50 лет, и это достаточно сложно, если ты физически себя не поддерживаешь. Если ты работаешь с молодыми в высшем учебном заведении, то тебе, как минимум, неловко там быть не в тонусе. В конце концов девушки красивые там ходят каждый день перед тобой. Или, наоборот, молодые люди, и тебе как‑то хочется соответствовать, не быть рядом с ними бабушкой или дедушкой. Поэтому это замечательные профессии.
Ну а как книги появились? Первую историю вы помните? Как она возникла? Сюжет?
Я писала, сколько себя помню. Мама у меня хранит рассказ, написанный классе в четвертом. Где‑то, наверное, класса с седьмого я начала писать длинный, бесконечный роман, бросила его, потом начала другой, то есть я не помню себя не пишущей. У меня был очень маленький промежуток, когда я не писала. Это когда родился сын. Мне просто было некогда. И я была настолько в ребенке, в том, что он так во мне нуждается, и я, конечно, безумно в нем нуждаюсь, вся жизнь была вокруг него, как, в принципе, у всех молодых родителей. А как только ребенок пошел в детский сад и стал более‑менее самостоятельным, то есть мне было уже не страшно оставить его с воспитателем на семь‑восемь часов, так сразу же я начала что‑то там писать. Другое дело, что я тогда писала а-ля Чак Паланик, и мне всегда нравилось такое направление. Мне казалось, что я устойчиво гениальна, уж коли мне понравилась эта фраза Трампа, и мне казалось, что я делаю что‑то новое, интересное. Ну а потом как раз начала просачиваться литература такого типа. До этого же мы в основном читали наших, как сказать, людей, которые мыслили примерно так же, то есть либо классика, либо те писатели, которые у нас считались, как сказать, мыслящими правильно. Но Чак Паланик, конечно, мыслил неправильно. Это однозначно. Поэтому он к нам какими‑то тайными тропами пробирался и пробрался ко мне позднехонько.
Когда я его прочитала, я была потрясена, и он до сих пор один из моих любимых писателей. Но я поняла, что все, что я делаю, это ерунда, потому что я изобретаю велосипед, а люди уже делают это лучше меня. И очень давно делают. Поэтому, с одной стороны, это был момент открытия и просветления, а с другой, это был удар. Я поняла, что писать хуже или писать плохо, не хочу. Поэтому надо делать что‑то другое. А что, я не знала. И в то время у нас детективная литература была в не очень веселом состоянии. В каком плане? Очень мало авторов работало в этом жанре. На слуху братья Вайнеры, Юлиан Семенов, еще два‑три автора, Леонов, конечно. И все, собственно. Мы с вами мучительно будем набирать десять фамилий из тех, кто работал в советское время. Я не рассматривала этот жанр, хотя всегда очень любила детективы. Очень много читала зарубежных и наших. И вдруг этот бум девяностых, когда в детектив пришло очень большое количество авторов. И я с таким удовольствием покупала книги наших именно, российских авторов, просто стопками по семь‑десять книг. Я приходила с такой радостью, вот я сейчас почитаю. И очень многое мне не нравилось. Потому что время было не очень веселое, и люди ему соответствовали. И я поняла, что мне как читателю вот в этой не очень симпатичной окружающей меня картинке хочется прямо противоположного, хочется, чтобы было весело, задорно, никакого сурьезу, чтобы все было очень оптимистично и под конец – миллион долларов и самый красивый мужчина, и вообще все хорошо. Я думаю, это был такой внутренний протест против того, что тогда виделось серо, уныло, и люди не знали, куда мы вообще идем. У очень многих была мысль: мы остаемся, уезжаем, что дальше? Я помню, у меня многие друзья в буквальном смысле слова сидели на чемоданах. И мы уже оглядывались и думали, ну а чего делать‑то? Мне было это все, что по‑русски называется опричь души, и я посильно сопротивлялась.
И вас сразу, у нас любят клейма, окрестили: ˂пишет˃ иронический детектив, сразу стали сравнивать с Иоанной Хмелевской.
Да.
Вам это льстило? Вас это обижало, как любое сравнение авторов? Как вы к этому относились?
Никоим образом не обижало. Если бы меня сравнили с автором, который мне не симпатичен или я плохо к нему относилась. Но я вообще ко всей пишущей братии отношусь очень хорошо, потому что знаю, чего стоит написать книгу, которую прочитают хотя бы, ну, не знаю, тиражом в 5000, то есть 5000 потенциальных читателей. Что нужно для этого сделать – надо вывернуть себя наизнанку, как минимум. Поэтому я с колоссальным уважением отношусь к авторам вообще. А Иоанну Хмелевскую я очень любила и люблю, хотя на самом деле у нее два хороших романа. Но они настолько хороши, что я считаю, она обессмертила себя двумя произведениями, и вопросов никаких нет.
А это сравнение вам казалось точным?
Нет. Конечно, нет. Пани Иоанна никогда не ходила по острию, а мои персонажи всегда были готовы шагнуть туда или сюда, они всегда на грани. И это мне очень симпатично. У нее всегда главный персонаж – хорошая женщина с золотым сердцем в трудной жизненной ситуации. Там нет никаких вопросов к ее, я не имею в виду нравственную составляющую, она может иметь массу любовников или еще что‑то, но как человек…
Но сердце доброе…
Да. Сердце доброе. А мне всегда было интересно то, что в американской литературе называется «плохой хороший парень». Когда человек, такой, сомнительный, выполняет роль положительного героя. Мне это всегда было интересно.
Но это очень близко и для русской литературы – плохой хороший человек.
Конечно, это наш…
Я знаю, что вы Достоевского любите.
Да, да, да. Вот как раз к нему и возвращаемся. Американцы, конечно, безбожно эксплуатируют этот типаж, иногда он уже просто раздражает, но на нашей русской почве он вполне гармоничен, потому что наша жизнь диктует какие‑то такие вещи. Не зря у нас пословица: от сумы и от тюрьмы… и прочая. У нас всегда было своеобразное отношение к разбойникам. Если англичане могут похвастаться своим Робином Гудом, у нас их целая плеяда, и Кудияр, и я уж не буду говорить про Степана Разина, который побил все рекорды популярности. Даже Пугачев ему однозначно уступает. То есть у нас своеобразное отношение к людям, которые асоциальны. Они протестуют против того, что происходит вокруг них, и протест бывает иногда такой, что называется, на грани. Мы это прощаем за лихость, за доброту, за то, что называется русским характером – такая душевность и прочая. То есть на что‑то мы готовы не обращать внимание. Я это хорошо знаю и потому тоже безбожно этот тип эксплуатирую.
А потом возникло понятие «авантюрный детектив». Что‑то поменялось? Почему от иронического до авантюрного?
Просто люди поняли, что не стоило изначально меня сравнивать с Хмелевской. Подмены одного другим быть не должно. Потому что изначально я писала как вещи, которые можно условно назвать ироническим детективом, так и вещи, которые очень сложно назвать ироническим детективом. Одна из моих ранних вещей – там женщина спасает мальчика, который стал свидетелем убийства, и за ним ведется охота. А она – обыкновенная девушка-художник, иллюстратор детских книжек. И представляете, она оказывается в гуще этих жутких бандитских разборок. Плюс она сама еще только‑только вышла из детского возраста. А на шее у нее – такой подросток неуправляемый, уличный мальчишка, вольный, который в принципе о жизни знает больше, чем она. И это было очень интересно – проследить, как они притираются, как находят дорогу друг к другу, как она становится мудрее, как он начинает по‑другому смотреть на этот мир. Этот этап сближения одного человека с другим был мне безумно интересен. Детективная составляющая была там уже как фон для того, чтобы показать вот это все. Так как я тогда еще только‑только ушла из воспитателей, мне этот момент был гораздо более интересен, чем кто там главный злодей и прочая. И назвать ее ироническим детективом можно было, конечно, только не прочитав.
Я никогда не спорю ни с кем. Считаю, это пустая трата времени. И я просто делала свое дело, как я это считаю нужным. Когда у меня вышла книга «Любовь очень зла» – очень жесткая история, там нет положительных персонажей. Говоря по‑простому, все плохие. И она еще с элементами садо‑мазо, все это очень наворочено. Но после этого назвать меня ироническим автором можно было только в порядке бреда. Поэтому стали думать, а как же все то, что я делаю, можно назвать. И пришла идея, что это авантюрный детектив. Я с этим согласилась. Что такое авантюрный детектив? Это предполагается, что главный герой – авантюрист. Все мои главные герои – это люди, которые к полиции не имеют никакого отношения. Но они при этом расследуют убийства. Что это, как не авантюра – влезать в расследование, когда ты понятия не имеешь, как это происходит и что тебя ждет в конце? Условно они, конечно, авантюристы. И условно это, конечно, авантюрный роман. Хотя если рассуждать с точки зрения литературоведения, что такое авантюрный роман? Это очень узко специализированный жанр, и по большому счету к тому, что делаю я, он тоже отношения не имеет. У меня есть чисто авантюрный роман, тоже очень старая вещь «Чего хочет женщина». Вот его можно назвать авантюрным романом. А все остальное – условно.
А меня вот какой момент очень интересует. Вы начинали писать, и вы об этом говорили, для себя. Потом приходит успех. Довольно быстро, первая экранизация у вас появилась через два года после издания первой книги…
Да.
Приходит успех. Насколько автор, вот вы, становится заложником успеха, читателей? У вас читателей 36 миллионов. Ведут ли автора читатели куда‑то, «мы хотим вот так вот»? Или автор продолжает писать только так, как считает нужным, пишет все равно для себя?
Это же зависит от характера человека. Есть люди, которые поддаются этому внешнему давлению. И мы такие вещи знаем. Фицджеральд, например, пытался, когда приехал в Голливуд, писать сценарии. Ничего из этого хорошего не вышло. Потому что он с одной стороны пытался быть Фицджеральдом, а с другой – пытался написать сценарий, который за дорого продаст. Как правило, когда человек вот так вынужденно балансирует, ничего хорошего из этого не получается. Поэтому я думаю, что у всех по‑разному.
А как у вас?
У меня – нет. Я хочу сказать, что прежде всего спасает писателя в плане популярности. Писатель – это все‑таки человек, который бо́льшую часть своего времени проводит наедине с собой в своем собственном кабинете. Мы все‑таки не звезды экрана и шоу‑бизнеса. Необходимости тесного контакта со зрителями, почитателями нет. Сейчас это легче в том смысле, что появились соцсети, где ты читаешь свежие отклики, вот человек прочитал и сразу тебе написал. Но еще десять лет назад этого не было. И догадываться, что ты интересен и прочее, ты мог только по тиражам. Тиражи растут, а не падают, книги покупают – значит, ты молодец. Ну и встречи с читателями, на которых тебе что‑то говорят или не говорят. Как правило, критики такие жанры, как детектив, любовный роман, фэнтези, счастливо обходят, считая недостойными своего пера и т. д. Поэтому какой‑то серьезной критической литературы я у нас о детективах не читала и не видела. Как правило, это такая отсебятина: «Да, я не люблю. Это плохо». Естественно, такие отзывы мне ничего не дают. А я не люблю, например, Толстого. И что? Толстой плох?
Когда готовился к передаче, читал отзывы на вашем сайте. Такие теплы отзывы!
Это вам повезло.
Может быть. Одна девушка пишет: «Убили героя. Как так? Как могли? Так хочется светлого. А там все погибают». И самая распространенная просьба – это продолжение. Когда выйдет. Выйдет ли? Вот как у вас? Есть же романы, которые не имеют продолжения. Есть серии. Как они рождаются? Так полюбился герой?
Ни одна из серий не замысливается изначально – вот я пишу роман, это начало новой серии, там я дальше буду развивать. Нет. Я чуть‑чуть объясню, как я работаю. Я всегда иду от истории. Придумывается история, которая мне очень интересна. И я хочу ее рассказать. Я думаю, хожу, она у меня в голове крутится туда‑сюда, я нанизываю, нанизываю какие‑то ˂детали˃, как бисер вот она получилась. Я уже знаю ее, хочу рассказать, она просится наружу. Теперь мне надо подумать, кто у меня там будет действовать. Герои в этой истории должны выглядеть органично – почему они, а не кто‑то другой. Вот они пришли, я их вижу, вот так они одеваются, так ходят, так общаются – я все с ними поняла. Получилась книга. В следующий раз начинаю работать, и вот тогда, это не так часто, серий у меня семь или восемь всего на большое количество романов, я понимаю, что у меня этот герой уже есть. Придумалась история, чего же мне опять писать точно такого. Во‑первых, это не интересно ни мне, ни публике. А этот персонаж уже есть. Значит, я спокойненько его беру и адаптирую к той истории, подбираю хвосты, которые у меня возможно остались из предыдущей книжки, чтобы он не выглядел, как черт из табакерки вдруг выскочил, а чтобы это было логичное продолжение истории, которую я рассказываю. Иногда получается так, что он очень настойчив. Или она. И кочуют из романа в роман. Больше восьми книг с одним героем у меня еще не было. Это мой личный рекорд. И я считаю, что больше не надо. За восемь книг ты уже все расскажешь про персонажа. Иначе это будет сказка про белого бычка.
А сложно называть? Имена персонажей легко приходят? И профессии?
Это очень сложно. В каком плане. Для меня имя уже рождает какой‑то облик. Имя важно. И фамилия. Мне надо, чтобы я его увидела четко, ясно, как вас сейчас, мне надо знать, как его зовут, а потом я буду думать, а чем вот он такой, с таким характером, может заниматься. Есть у меня такая серия как раз, называется «Таинственна четверка», немножко мистическая, такое детективное агентство, где собирается довольно странная публика – девушка‑экстрасенс, молодой человек‑хакер, бывший военный, который отвечает за всю оперативную работу, и главный над ними над всеми – некто Бергман. Уже фамилия такая нестандартная, зовут его Максимилиан, и весь он такой, с двойным дном и непонятно вообще что. И я думала, ну а кем он может быть в реальной жизни? Понятно, что он руководит этим странным агентством, а кем он может быть? А там еще такая предыстория, что герои в одной из прежних жизней дали страшную кровавую клятву, что встретятся вот здесь вчетвером, у них миссия. Первая книга так и называется «Миссия свыше». И я думала, а кто он у меня будет вот с таким шлейфом, у него куча прошлых жизней, и везде он чем‑то занят. Я очень долго думала, пока в Италии не набрела на совершенно очаровательный букинистический магазин. Я вошла. А там мало того, что книг безумное количество, там еще какие‑то глобусы, астролябии, банки с неизвестно чем. И все это вперемешку и безумно интересно. Я провела там полдня. И когда вышла, поняла, кем у меня будет Бергман. Он, конечно, будет владельцем вот такого магазина. И как только это пришло, все остальное моментально срослось. Я его увидела совершенно ясно, он мне стал абсолютно понятен – чем он занимается, как живет, где дышит, и все моментально встало на свои места. Поэтому это очень важно.
Иногда мне кажется, вот я назвала героя правильно, а потом чувствую какой‑то дискомфорт. Вот не могу его так называть и все. Иногда это бывает уже на первой, на второй тетрадке. И я чувствую, что нет. И как только меняется имя, очень многое меняется в повествовании. То есть приходится и возвращаться назад, и переписывать, и передумывать. Это очень живой процесс. С одной стороны, он очень сложный, потому что ухватить эти хвосты, когда что‑то приходит. Я просто из любопытства много раз пыталась ˂поймать, ухватить˃, как вообще идеи приходят в голову? Мне было интересно просто себя поймать. Вот в какой момент? Ты все равно не в состоянии это сделать. Она к тебе приходит более‑менее готовая. А вот сам момент возникновения – это всегда так неожиданно, так интересно. И уже за это я безумно люблю свою профессию и очень благодарна, потому что жизнь она безусловно украшает.
Давайте представим фантастическую ситуацию – строится новый Ноев ковчег, туда можно взять ограниченное количество книг. И вот к вам приходят и говорят: «Татьяна Полякова, от вас три книги». Какие свои три книги вы возьмете?
Свои? Ну, во‑первых, я бы, конечно, Библию взяла, да простят меня…
Нет, вот свои.
Да, я поняла. Вот если б можно было, я бы, конечно, ее. Потому что она, да простят меня верующие люди, Библия – уникальная вещь, там есть все, и детектив, и любовный роман, и приключенческий, и военный роман, и вообще все, что мы потом уже две тысячи лет пишем. Там все это уже есть, и это классно. Я сама многими историями пользуюсь. Любимая моя – история Самсона и Далилы, я по‑разному ее варьирую, но безбожно эксплуатирую вот уже двадцать лет. Потому что супер-история.
Ну да, и весь нуар на ней держится…
Прекрасная история великой любви. Еще у Шекспира: «…нет щита на любящей груди».
История роковой женщины…
Необязательно, может быть, мужчины. Спокойно меняется местами. Главная идея – вот этого щита на любящей груди, которого нет, и ты все принимаешь на себя. А свое. Вы меня вынуждаете сказать, какие романы я считаю наиболее удачными. Я не буду говорить этого, иначе получится, что все остальные – как бы неудачные.
Это ваше право, как любит говорить Владимир Владимирович Познер. Хорошо. А был роман, который тяжелее всего давался?
Парадокс в том, что иногда ты пишешь очень мучительно, а получается очень хорошая, слаженная и в хорошем смысле легкая вещь. Иногда ты пишешь легко, просто летишь, а получается не очень. Очень редко, когда ты летишь и получается хорошо. Это, конечно, идеал писательской работы. Но это, я уже сказала, очень редко бывает. А так вообще, как сказать, складывается по‑разному.
Мне тоже кажется, что чем тяжелее что‑то дается талантливому человеку, тем…
Вы знаете, здесь еще вопрос, какая вещь и что ты вкладываешь. Есть вещь просто по сюжету очень сложная. Когда с героями происходят тяжелые события. Ты же абсолютно все, что происходит, пропускаешь через себя, потому что по‑другому невозможно. Ты вместе с ними страдаешь, переживаешь. Причем это касается не только положительных героев. Это касается всех героев, они говорят с этим миром через меня. То, что называется «устами мертвых», в данном случае теми, кто не может сказать сам. Вот я должна говорить за них, причем даже за какого‑то маньяка, негодяя и прочее. Я все равно какую‑то часть себя вынуждена ему отдать. И это иногда очень тяжело, болезненно. Иногда ощущение, что мир сжимается до такой степени, что на тебя давит.
А вы суеверный человек? Есть темы, которые вы никогда не возьмете?
Конечно. И они совершенно очевидны. Тем более для женщины. Никаких жутких пыток с описанием. Если это нужно по сюжету, бывает такое, значит, это будет очень поверхностно, я имею в виду, буквально несколько слов. Люди не идиоты и понимают, что…
Это, кстати, иногда даже воздействует сильнее.
Да. В гестапо не сахар. Достаточно сказать, куда человек попал, и, кстати, сравнить с той замечательной в кавычках организацией. И уже все понятно, что человека там ожидает. Естественно, все, что касается детей. Это табу. И опять‑таки если это очень и очень необходимо, значит, это будет максимально деликатно. Все, что касается женщин. Я считаю, что женщина не обязана быть доброй, красивой, любящей и прочее. Как мужчина не обязан быть героем. Но мужчина‑трус – это некрасиво, во всяком случае воспринимается как‑то так. Не по‑мужски это, согласитесь. Точно так же злая женщина, злобная, жестокая – это как мужчина‑трус. Это все есть, но это не комильфо. Я всегда о таких вещах помню.
Как называется ваш последний роман и о чем он?
Книжка выйдет в конце февраля, начале марта. Называется «Свой, чужой, родной». Книжка об интуиции. О том, что есть люди, которые доверяют интуиции, а есть, которые на нее не реагируют. Роман о том, как девушка доверяет своей интуиции. Вот стоит дом. Обычный. В центре города областного. У меня действие всегда происходит в областном городе. Не в Москве, не в Питере, а в типично российском, от Владимира и до Владивостока. Неважно где, но это примерно полумиллионное население. Это важно для…
Сужаете круг…
Да. Сужаю. Потому что есть моменты, которые в большом городе невозможны. Вариант встречи. Конечно, в Москве мы тоже случайно встречаемся, но, согласитесь, найти человека, которого ты один раз случайно увидел, в мегаполисе достаточно сложно. В полумиллионном городе это проще. Так вот я хочу сказать, что здесь, в центре города, – обычный особняк. И девушка каждый вечер, отправляясь на пробежку, идет мимо, и что‑то ее в этом доме привлекает. Она смотрит и думает, каждый раз идя в парк и возвращаясь, что с домом что‑то не так. Все над ней смеются, что она Стивена Кинга начиталась. Ее друзья говорят: «Ну, дом, как дом. Не живет там никто, ну, мало ли что там. Ставнями закрыто». А она вновь и вновь к нему возвращается. Она чувствует, что в доме что‑то не так, гнет свою линию. И в конце концов оказывается права: с домом что‑то не так. Роман детективный, конечно.
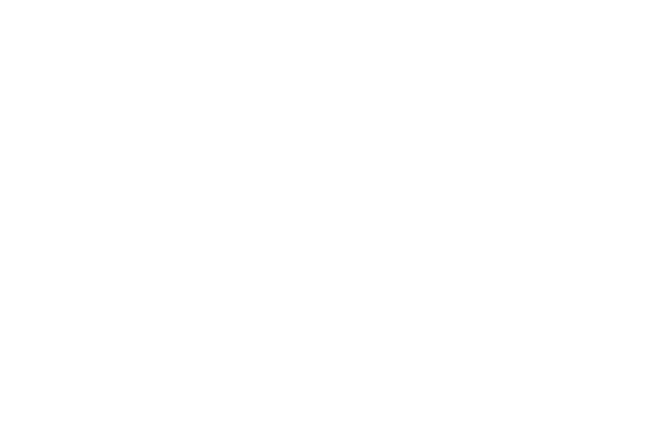
Друзья мои, кто хочет узнать, что же с домом не так, читайте новый роман Татьяны Поляковой.
Вы однажды сказали, что после пятидесятой книги собирались завершить карьеру, но увидели плакат Дарьи Донцовой о сотой книге и сказали, не слабо ли мне дойти до сотой книги. То есть Дарья Донцова в некотором смысле вас взяла на слабо.
Да. Именно так.
Недавно вышел сериал «Вражда» про Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд. Не смотрели?
Нет, еще не смотрела, но уже слышала.
Всего восемь серий, старый Голливуд. Скажите, а как с писательницами детективов? Вы дружите, знакомы, враждуете? Как у вас складываются отношения с коллегами?
Это массовое заблуждение, что писатели где‑то кучно собираются, ходят, враждуют. Это же не Голливуд, возвращаясь к сериалу. Это не шоу‑бизнес, не киношка, где люди вынуждены собираться большой группой, чтобы снять фильм. И вот тогда что‑то там происходит – недопонимание, конкуренция, у кого‑то роль лучше, у кого‑то хуже…
У кого‑то платье лучше…
Да. Кому‑то написали больше текста, кому‑то меньше и т. д. Ну это я так себе представляю. Это не моя среда. А писатель в основном, как я уже сказала, это одиночка, который большую часть своего времени проводит наедине с самим собой. И, если честно, все, что происходит наедине с самим собой, настолько интересно, вот лично для меня, что все, что происходит в этот момент с другими, по большому счету мне абсолютно все равно. Авторы, как сказать, больше сами по себе. По крайней мере то, что касается меня. Я всем желаю добра и счастья, но я с трудом понимаю, что мне с кем делить.
Если говорить о моих близких коллегах. У меня выходит три книги в год. Нормальный человек читает, как правило, две книжки в месяц. Я имею в виду людей, которые приучены к чтению. И этому человеку надо что‑то читать, пока я пишу очередную книжку. Поэтому я думаю, мы, наоборот, друг друга поддерживаем. Пока не вышла моя книга, читают моих коллег. И интерес к детективу поддерживается. Потому что если человеку нечего почитать в любимом жанре, он уйдет в сопредельный – в любовный роман, в фэнтези, еще куда‑то. В фантастику вряд ли, но куда‑то там, может покинуть нас. Мы, я считаю, передаем эстафету друг другу. И люди, которые видят проблему с моей точки зрения, они коллег ценят и заинтересованы в том, чтобы те работали хорошо и замечательно, чтобы наши читатели нас не покидали. Люди, которые меряются амбициями, кого больше издают и прочее, я думаю, это просто заняться нечем. Это просто черта характера. Не обязательно быть писателем, он и, работая в офисе, нашел бы повод обидеться, что у кого‑то стол ближе к окну, кому‑то начальник улыбается чаще. Это личностное. Я не думаю, что человека, который серьезно занят своей работой, особенно интересует чужая.
То есть тиражи вы не сравниваете?
Я вообще себя никогда ни с кем не сравниваю. Я считаю, что это довольно глупо. Всегда будут люди, которые лучше тебя, талантливее, красивее. Кто‑то родится английской королевой, а я – нет. И мне по этому поводу что, надо рыдать в подушку и всю оставшуюся жизнь жутко переживать? Что бабушка счастлива на троне, а я, вот, извините, обделена этим? Повод найти, из‑за чего обидеться, пострадать и почувствовать себя несчастной, их масса. Ходи и придумывай для себя. Вопрос – зачем тебе это. Мне точно не нужно. Поэтому я себя никогда ни с кем не сравниваю. И думаю, что в силу возраста уже и поздно начинать.
А бывают же еще доброхоты, которые звонят подруге или знакомой и говорят, а вот там тот‑то и тот‑то, у того‑то тираж больше...
Меня очень счастливо покинули все люди такого плана. Причем они прибивались ко мне по жизни и сами как‑то уходили. Почему? Я для них абсолютно неинтересна, со мной скучно. Потому что человек мне звонит, даже не по поводу моих каких‑то книг, а просто говорит, вот у Марь Иванны там то‑то то‑то. А я на это отвечаю: «Ну почему? У нее там такой хороши мальчик. Он такой замечательный, симпатичный. И чего уж в нем плохого». Она мне опять про то, что он такой‑сякой. А я про то, что я его на днях видела, и ребенок произвел на меня просто очень хорошее впечатление. Ну чего со мной говорить, когда я не откликаюсь на это, на весь этот негатив, злобные выпады и прочее? Поэтому раз позвонили, два, три, ну скучно же. Я человек неинтересный с этой точки зрения. Поэтому мы спокойно расходимся, и никто мне ничего не говорит. Мне могут сказать, вот, условно у Даши Донцовой тиражи больше. Что я на это отвечаю? Что Даша Донцова – молодец. Она гораздо трудоспособнее, чем я. Я‑то вот наваяла 83 романа, а у Даши – в два раза больше. И она вообще человек очень талантливый, хороший, добрый, много полезного сделала. Ну, скажите на милость, после этого чего мне говорить‑то?
Прекрасный способ, друзья. Это лайфхак от Татьяны Поляковой, как отвадить от себя ненужных людей.
Да они сами уйдут. Главное, не спорить, ни в коем случае их не учить ничему, не призывать к совести и прочее. Это значит, что вы вовлекаетесь, понимаете? А когда вы спокойно совершенно от всего этого закрываетесь и просто говорите: «Ну а чего ж такого плохого‑то». Ничто так не бесит людей, как утверждение, что вообще‑то все нормально. И люди вокруг хорошие, и жизнь, в общем, неплоха. Живем же мы, слава богу. Гораздо лучше живем, чем, например, даже 20 лет назад. Я как человек, который очень хорошо помнит то время и сегодняшнее, могу сказать, что да.
Готов согласиться.
Люди, поняв, что с вами бесполезно на эту тему общаться, вас скоренько покинут, и я вас уверяю, ни звонить, ни писать не будут и доставать свои присутствием тоже.
Не могу не задать такой вопрос. Есть такое предубеждение, очень распространенное, вообще к детективам, что это не совсем литература, не совсем искусство, это вообще отдельное что‑то. Что вы по этому поводу думаете? Как на такую критику отвечаете?
А я согласна. А почему нет? У каждого человека может быть свое мнение. Человек считает, что детектив – это не совсем литература, ну и пускай считает. Главное, чтобы он вообще что‑то читал. Я не против, когда люди отзываются таким образом вообще о жанровой литературе. Другое дело, что умный человек, особенно который более‑менее имеет представление о том, что такое жанровая литература и как в ней работать – а жанровая литература очень сложная для написания, потому что там есть очень жесткий каркас, жесткие рамки, которые если будешь нарушать, ну-у-у, если ты, конечно, не супергениальный, поломав все, не создашь что‑то совершенно новое и такое, от чего у всех просто голову снесет, что в принципе очень тяжело, когда все уже изобретено, – и мы возвращаемся от больших форм к малым, если вы заметили.
Я как раз заметил...
Если вы не из этой породы, то вообще в жанровой литературе работать очень сложно. Насколько легко она читается, настолько тяжело пишется. Человек, который работает в, условно назовем, современной прозе... Это же очень размыто – на самом деле, пиши, как считаешь нужным. Хочешь – так, хочешь – так, строй, как угодно, сюжет, можешь вообще не обременять себя сюжетом. Ты вообще можешь все, что угодно, потому что у того, что называется «современная проза», никакого жесткого каркаса, никаких рамок нет. И слава богу. А вот у детектива они есть. И если ты будешь их нарушать, вся конструкция завалится и ничего не получится. Тебе кажется, что ты так все замечательно придумал, а никто читать не хочет и никому это не интересно. Потому что это не детектив. И вообще не очень понятно, что ты такое написал. Как правило, умные люди такого не говорят. А говорят или те, кто очень плохо представляет, о чем говорит, или люди, которые в принципе ничего не читают. Когда мне говорят фразу: «Ой, что вы, я детективов не читаю», – я, как человек любопытный, потому что всегда ищу, чего бы мне почитать, я еще и читатель, не только писатель, я спрашиваю: «А что вы читаете?» И если глаза забегали и человек судорожно пытается вспомнить и говорит: «Ой, вы знаете, я читаю классику», – я все поняла: человек в принципе ничего не читает. И последняя его книга счастливо была прочитана, хорошо, если в институте. Это человек, который читает порядка трех‑четыре книг в год, то есть вообще не читает, с моей точки зрения. Они могут говорить все, что угодно. Это просто желание себя приподнять и сказать, что я не хуже, а лучше. Иногда у меня возникает желание поиздеваться, если мы где‑то в тусовочной среде или в поезде, самолете. И я с очень серьезным видом начинаю расспрашивать, и, как правило, это очень забавно. Но это грустно.
А то, что человеку не нравится. Ну а почему все должны любить одно и то же. Я уже сказала, что не люблю Толстого. Я люблю страсти. Мне вот чтобы все рвалось и рушилось. Поэтому я очень люблю Шекспира, Достоевского. Как вы знаете, Толстой не любил Шекспира. Для него это было табу. У нас несовпадение. Я несколько раз во взрослом состоянии читала Льва Николаевича. Честно, вдумчиво, пыталась. Ну да, история такая. Мало того, что весьма далекая от того, что я люблю, как читатель, – абсолютно фантастическая. Да где же вы видели такого мужчину, который встретил уличную девицу, все бросил, поехал за нею в Сибирь… Это даже не красотка, понимаете! Это еще круче. Это с нашим русским надрывом кинуть все, и неизвестно во имя чего…
А если к Достоевскому обратиться. «Преступление и наказание» – это детектив?
Нет, конечно. Детектив – это жанр. Это жанровая литература. Масса всяких книг с убийством – это вовсе не обязательно детектив. Это может быть от нашего любимого Федора Михайловича до криминального романа. Вот такой разброс. И даже криминальный роман – это криминальный роман. «Крестный отец», какой это детектив? Это криминальный роман. А детектив – это узкий жанр, где ты четко знаешь, что он требует от тебя, и ты это либо выполняешь, либо нет. Сейчас очень мало кто пишет детективы. В том числе и я. Сейчас очень редко пишу то, что четко можно назвать: это детектив. В основном это криминальные романы.
79 процентов ваших читателей – это женщины. Когда начинали писать, вы думали, что пишете для женщин? И вообще, вам обидно? Хочется, чтобы больше мужчин было в процентном соотношении?
Я не особенно себя утруждала такими размышлениями. Я пишу для тех, кому это может быть интересно. Если среди них такой большой процент женщин, это логично. Я сама женщина, и я пишу, как уже сказала, для себя, как для читателя, то есть уже для женщины. Я делаю то, что мне хотелось бы увидеть в готовом виде. Поэтому вполне логично. Когда нравится мужчинам, интересно – замечательно. Бывают встречи совершенно неожиданные. Мне кажется, что вот этот человек никогда не будет читать детектив, да еще женский. Нет, читают. И совершенно нормально. Для меня практически на каждой встрече с читателями бывает какое‑то открытие. Как правило, со стороны мужчин. С женщинами я как‑то привыкла общаться, я про них более‑менее, не буду говорить все, но знаю. А мужчины, бывает, ставят в тупик. Это тоже классно. Это заставляет как‑то по‑другому взглянуть.
По поводу экранизаций. Я насчитал девять или даже десять.
Девять.
И мы уже затронули это, первая экранизация появилась очень быстро. Буквально через два года. Там Александра Захарова играла, Певцов.
Да, очень хорошая, с моей точки зрения.
А последняя вышла буквально в 2017 году. То есть 18 лет. Изменилась индустрия и подход к экранизациям? Вы уже можете это сравнить, отследить?
Я думаю, сейчас это больше имеет отношение к конкретным каналам. Если «Тонкая штучка», насколько я помню, это была продюсерская работа, потому они куда‑то там это, условно говоря, продавали. То сейчас это, как правило, заказ от конкретного канала. А у канала есть своя политика, которой канал следует. Понятно, что на вашем канале не будет того, что будет на каком‑то другом. У каждого своя специфика. Учитывая, что последние экранизации – это был как раз один канал, то и подход был в общем вот такой. Сейчас общая практика, когда покупают права на экранизацию и дальше автор там никоим образом не участвует.
А вы к каким‑то из этих экранизаций писали сценарий?
Нет. Сценарии не писала. И я не вижу себя, по крайней мере, сейчас человеком, который пишет сценарии. Потому что это не разовое. Сценарист в работе все время, пока идет процесс. И он не волен, как я. У него есть определенные рамки. Это другая профессия.
То есть не писали и не было такого желания?
Не было.
А если бы вас попросили?
Были моменты, когда мне предлагали даже не по моим книгам писать сценарии, а просто написать сценарий. Так как это будет для меня что‑то новое, боюсь, что потрачу такое количество времени и не факт, что мне это придется по душе. Я поняла, что мне комфортнее в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас. Наверное, когда‑то это закончится. Если вдруг такое произойдет, то, может быть, я займусь написанием сценариев или еще чем‑то. Потому что вообще не писать… Я с трудом представляю себя в роли человека, вообще не пишущего. У меня есть давнее желание написать пьесу, такую, смешную. Это ближе, может быть, но тоже совершенно другое. Драматург театральный и сценарист – это тоже две большие разницы. Может быть когда‑нибудь при стечении звезд что‑то произойдет. Но пока – нет.
А какие‑то консультации, когда шла работа над фильмом, у вас брали?
Нет.
Просто потом вы видели уже финальный результат?
У меня были очень хорошие контакты с продюсером, который делал три последних сериала. Мы с ним очень хорошо общались. Я была в курсе того, что там происходит, но участия никакого не принимала. И думаю, что это никому не нужно. Потому что кино – это коллективный вид искусства. И мой авторский взгляд – я приду, это ж все мое… В идеале надо не только самому сценарий писать, самому фильм снимать в качестве оператора, режиссера, но еще надо и все роли сыграть. Бред абсолютный. Я считаю, что автору лучше не соваться. Это очень выигрышная позиция. Как замечательно сказал наш классик, если уж сделали хороший фильм – ну а чего же по хорошей книге хороший фильм не сделать. А сделали плохой – испортил песню, дурак.
Считается, что авторы всегда недовольно экранизациями.
Да. Потому что у автора есть свое видение, мы их всех видим. Они не абстрактные. Они все совершенно живые. Со своим лицом. Со своим поведением. Я его вижу. Представьте, ваш очень близкий человек, вы приходите, вам выводят какого‑то незнакомца и говорят: «Вот это – ваша жена». Вы как отреагируете? Вы скажете: «Уберите, пожалуйста, эту женщину. Я ее знать не знаю». (смеются)
Смотря кого приведут.
Ну да, да. Это как раз счастливое совпадение. Когда авторам нравится – вдруг привели женщину, которая показалась вам гораздо интереснее собственной супруги. И вы сказали: «Да. Супер! Фильм хороший». А вообще, как правило, недовольны.
Вы очень много читаете, неоднократно говорили об этом в интервью. Я ознакомился с вашим списком десяти главных книг и нашел там только один детектив – «Записки Шерлока Холмса» Артура Конан Дойла.
Ну это же классика. Когда я составляю подобные списки, мне хочется, чтобы люди почитали то, что я считаю основополагающим. То, что должно быть в базе каждого человека. Детектив – это на самом деле развлечение. И это не обидно. По большому счету и кино – развлечение. Цирк – развлечение. Литература – по большей части вся развлечение. Все это создано для того, чтобы мы не трудились, а развлекались. А вот как мы развлекаемся, с пользой или без, дает это что‑то нашей душе и уму или нет, это уже другой вопрос. Поэтому мне всегда хочется посоветовать то, что мне кажется необходимым. Там нет личных пристрастий – вот, читайте обязательно Полякову.
Кстати, по поводу Конан Дойла. Шерлок Холмс – самый экранизируемый персонаж. Доктор Хаус и Умберто Эко «Имя розы» появились благодаря Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, эти люди там считываются. Какая-то потрясающая история. А как вы думаете, в чем феномен Конан Дойла? Его притягательность, которая не проходит уже столько времени?
Все‑таки проходит. Я думаю, в плане сопутствующей культуры Шерлок Холмс – это как Элвис Пресли, это уже ушло в другой культурный пласт. К сожалению, читают гораздо меньше. Если все‑таки говорить не о докторе Хаусе и прочая, а именно о книге «Записки Шерлока Холмса», читают гораздо меньше. К сожалению. Я хорошо помню, как у меня отобрали книжку в восьмом классе. Я сидела, на коленках ее держала и на физике читала. И прокололась, у меня ее отобрали. И учитель сказала: «Придешь завтра, заберешь». До меня потом дошло, что человек просто хотел ее прочитать. То есть было желание читать. Сейчас – нет. Реально есть очень многие люди, которые его не читали. В мое время найти человека читающего, который не читал «Шерлока Холмса», ну, не знаю… это было невозможно. А сейчас счастливо живут. У меня есть теория, что книга живет активно в жизни 50 лет. Через 50 лет она уходит. Если нет каких‑то вещей, которые искусственно продлевают этот период. Например, долгий запрет, как на Булгакова. Или долго не переводили, книга жила на Западе. К нам же, Хемингуэй пришел, например, чуть‑чуть позднее, и он у нас чуть дольше был в топах, когда – я очень хорошо помню – им зачитывались все. И это было просто что‑то. Хэм – это Хэм. У меня муж носил свитер толстой вязки а‑ля Хемингуэй. И прочая. Это было стильно, модно, и каждый образованный человек должен был знать чуть ли не близко к тексту. А сейчас этого уже нет. К сожалению, не к сожалению, это процесс. Мы‑то, старшее поколение, можем ностальгировать, но мы всегда считаем, что все хорошее было, когда мы были молодыми. А сейчас другие вещи приходят на смену. И эти 50 лет имеют значение. Все‑таки любому человеку интересно читать про себя. А 50 лет – это очень много. Это уже точно не про себя. Поэтому люди от этого отходят, им интереснее то, что ближе к ним и происходит именно сейчас.
А вы считаете, что читать стали меньше, да?
А я вижу, что читают меньше.
В принципе, очевидный факт. Что с этим делать? Нужно ли что‑то делать? Какая‑то популяризация чтения?
Наверное, нужно. Но вопрос‑то не в том, сколько человек прочтет. Я такое количество начитанных дураков в своей жизни встречала, что лучше бы просто ничего не читали. Другое дело, как читать. Ведь можно и детектив прочитать и вынести очень много всего. Поставить себе вопрос, а как бы я в такой ситуации поступил? А где та грань, за которую я готов перешагнуть? Или не готов? Чем я готов поплатиться? Например, ради денег. Сейчас это очень настойчиво, мы все хотим денег. Это на самом деле нормально. Мы все хотим много денег. Чтобы нам хватило на ту жизнь, о которой мы мечтаем. В этом нет ничего плохого. Это просто пришло к нам позднее. Я имею в виду, вместе с возвратившимся капитализмом. А в Америке «Американская трагедия» написана еще в начале прошлого века. Вот эта идея: кто я против денег. Эти вопросы человек себе обязательно задает, когда читает детектив. Если он его увлек, и он следит за историей, его это волнует. Он их задает себе и на них отвечает. И в этом есть та польза чтения, о которой мы говорим и чего мы ожидаем. Человек сам себя воспитывает. Воспитать его иначе нельзя. Все слова со стороны идут, как правило, по поверхности и редко задерживаются в голове. Если, конечно, это не производит какого‑то ошеломляющего впечатления.
А своему сыну вы прививали любовь к чтению?
Да. Он у меня очень долго читал одну книжку. Где‑то, наверное, класса с восьмого по десятый он читал одну книгу, что‑то про индейцев, я сейчас уже не помню. Он мне честно говорил, что читает, но счастливо переходил с 20‑й страницы на 25‑ю. Естественно, он читал то, что задавали по литературе, за этим я следила. А здесь я думала: «Боже мой, у нас вся семья – без книжек никуда, а ребенок у меня не читает». Потом получилось так, что мы были на даче и была плохая погода. Сплошные дожди. И я подумала, почему я думаю, что он маленький, все каких‑то индейцев ему предлагаю читать, что‑то такое адаптированное для детского возраста. И дала ему «Хроники Амбера», первый том. Он у меня просидел на веранде до глубокой ночи, вернулся – прочитал первый роман, сразу же потребовал второй, в течение недели он прочитал все «Хроники Амбера», весь цикл. Потом он меня спросил, а что есть подобное. Я ему стала потихонечку подкладывать, подкладывать. И мы плавно перешли на литературу, так сказать, другого типа. К окончанию школы он читал и «Сто лет одиночества», и Борхеса, и всех авторов, которых я считаю весьма и весьма достойными. Он был очень горд, когда услышал, как «Би‑2» пели «Полковнику никто не пишет». Он сразу все это считал, о чем и прочее. Со своими ребятами дискутировал, был в теме, и ему это нравилось. Важно разговаривать. Предлагать, рассказывать. И совершенно идиотский способ попытаться заставить ребенка читать – когда ты сам ничего не читаешь.
Пример – это самое главное.
Конечно. Когда мама в лучшем случае с журналом, а тебе говорит: читай, это значит, что ты поражен в правах. Тебя заставляют делать то, что взрослые не делают. Поэтому мало того, что тебе не хочется это делать, ты еще начинаешь отстаивать свою независимость и не читаешь уже не потому, что тебе неинтересно, а потому, что просто отстаиваешь свою независимость. Всегда надо начинать с того, что есть в семье.
Личный пример, друзья.
Да. И разговор. О прочитанном.
Возвращаясь к списку из десяти книг. Просто хочу сказать нашим зрителям, что там и Грибоедов, и Бестер, роман «Тигр! Тигр!». Причем вы говорите, что этот роман во многом повлиял на вас как на автора. Вот как раз, что герой не обязательно должен быть положительным.
Да. Вот именно герой, который совершает не совсем хорошие поступки, скажем так. Он и так на грани. А плюс еще, помните момент, когда он бросает женщину, которая за него готова умереть. А он ее просто бросает и двигается дальше. Для нормальной женщины, я считаю, это поступок совершенно жуткий. И для меня было парадоксально, что я продолжаю ему сочувствовать, следить за его историей, хотя в этот момент мне надо было закрыть книжку, отбросить и сказать: «Не буду я тратить время на этого негодяя». Это как раз мастерство автора.
«Бесы» Достоевского. Это, кстати, мой любимый роман Федора Михайловича.
Согласна.
Был очень рад его увидеть в вашем списке. Рассказы Хемингуэя. Харпер Ли «Убить пересмешника». Фолкнер «Осквернители праха». Томас Манн «Иосиф и его братья». Булгаков «Мастер и Маргарита». И Ремарк «Три товарища» – лучшая книга о дружбе. Вот, друзья мои, книги, которые Татьяна Полякова называет главными в своей жизни.
Подходит к концу наша беседа, мы так заговорились, спасибо вам большое. Как я уже говорил, подавляющее большинство наших зрителей – это люди, которые сами пишут. Стихи, прозу. Есть ли у вас какой‑то совет для тех, кто пытается писать. Совет от человека, который достиг многого в профессии.
Единственный способ научиться писать – это писать. Другого способа никто не изобрел. Если вы чувствуете это в себе, надо двигаться, надо работать. Надо обязательно читать. Не хотелось бы уподобиться известному анекдоту о чукче. Смотреть, что происходит. Быть всегда на гребне волны, все, что касается современного, интересного, даже модного, потому что модное – не обязательно плохое. Очень часто модное бывает и интересно, и своевременно…
Я тоже всегда так считал…
И актуально. В общем, надо жить этим. Надо жить жизнью в литературе.
А когда вы успеваете читать?
А я практически не включаю телевизор. Людям, у которых нет времени, мой совет очень простой: отнесите телевизор соседям. Буквально на две недели. У вас образуется огромное количество времени.
Многие люди сейчас не смотрят телевизор. Но интернет…
Вы поняли, что я имею в виду. Уберите телефон. Выбросьте планшет или айфон, айпад. И заведите для звонков обычную «Нокию». Время у вас появится. Я это точно знаю. У меня был очень смешной эпизод, когда моя подруга на все мои призывы отправиться туда‑то или туда‑то говорила: «Ой, что ты, у меня нет времени, куда мне». В общем, сплошные отговорки. И вдруг она мне однажды звонит и говорит: «Слушай, представляешь, придурки, отключили кабельное. Я сижу второй день без телевизора, не знаю, что делать». (смеются).
Прекрасно. То есть даже в тот момент, когда вы работаете над книгой, вечером у вас находится время, и это как раз отдых. Вам не мешает, что вы сейчас в своем мире?
Нет. Я вам более скажу, может быть, кощунственную мысль, я могу читать три‑четыре книжки одновременно. Я могу читать детектив, что‑то из современной прозы, что‑то по философии, что‑то по профессии, например, того же Ландау (имеется в виду Нил Ландау – примеч. ред.) или еще что‑то. Или какую‑нибудь замечательную книгу из серии «Как стать счастливой за три дня». Я и такое, бывает, читаю. Даже в такой литературе ты иногда находишь очень много полезного и интересного. Это не значит, что я в течение дня читаю все три‑четыре‑пять книг. Но вот у меня сейчас такое желание – я читаю это, на следующий день больше читаю другое. Я, например, некоторых авторов не могу читать подряд. Я от них устаю. То есть авторов, которых я очень уважаю, люблю их. Но, например, читаю сто первых страниц – ну, супер, я в восторге. А потом чувствую, что начинаю тормозить, меня что‑то раздражает, что‑то мешает. Значит, надо сделать перерыв и почитать кого‑то другого. Читать можно по‑разному.
И еще у меня есть один вопрос. Он был не финальный, но почему‑то остался на финал. Вы родились и всю жизнь прожили в городе Владимире. А когда пришел успех, не было желания, искушения уехать жить в Москву, в Питер, за границу?
Вы знаете, я все‑таки пришла <в профессию> во взрослом состоянии. Мне было 38 лет, когда вышла моя первая книжка. Я была уже человек сформировавшийся, со своими устойчивыми привычками. И башню от внезапной популярности мне не сносило. Или от того, что я деньги стала получать собственные, а не мужнины. Мы почти сразу купили квартиру в Москве. Почему? Потому что я часто приезжаю сюда. Было по работе много всего. Мы останавливались у друзей. И, по русской привычке, мы не просто останавливались, но и сидели там за полночь. И мы‑то потом спокойно отсыпались, а людям надо было с утра ехать на работу. В какой‑то момент мы поняли, что это очень нечестно. Дружба дружбой, но надо и совесть иметь. Поэтому мы очень быстро купили квартиру в Москве, и я с 2001 года, по‑моему, прописана в Москве, то есть по паспорту – московский житель. Это связано с налогами, со всеми такими вещами, далекими от моих пристрастий. У меня долго не складывался роман с Москвой. Меня очень многое раздражало, как человека провинциального. Но парадокс в том, что мы вообще‑то из московского купечества. И мои предки, прабабушка – из семьи, которая лавки держала в Китай‑городе. И получилось так, что, абсолютно не выбирая, мы купили квартиру как раз в Китай‑городе. Я имею в виду, не выбирая место, мы просто смотрели, где нам казалось интересным, вдруг оказались в местах обитания предков. Папа у меня до первого класса жил в Москве. Потом они уехали в эвакуацию и больше не вернулись, так жизнь сложилась. Но в Москве всегда было очень много родственников. Папа очень любил приезжать.
Потом, по нашей семейной легенде, Васнецов писал Илью Муромца с моего прапрапрадеда, крестьянина Владимирской губернии Ивана Перова. Поэтому мы, когда приезжали в Москву, первым делом всегда шли с папой в Третьяковскую галерею. Это у нас называлось «поздороваться с дедушкой». И тамошние бабушки‑смотрительницы нас хорошо знали, когда мы шли, они здоровались и спрашивали: «К дедушке приехали?» И это было очень мило. В общем, в какой‑то момент я пыталась понять, почему мне так некомфортно. И поняла, что это синдром провинциального человека, который в большом городе не нашел своего места. Когда мы купили квартиру и пошли как‑то вечером на бульвары, я очень хорошо помню, что шел снег, и на бульварах еще эти фонари в виде блинов висели, сейчас их давно сняли. И мы шли, эти блины раскачивались, шел снег и ни души народу. Мы с мужем шли, и на снегу оставались только наши следы. И так тихо было. И я поняла, что Москва – то место, где мне очень хорошо. С этой минуты наш роман моментально стал складываться.
Я не могу сказать, где я живу сейчас. У меня дети живут в Петербурге, и я при первой возможности еду к внукам, к детям. Во Владимире у меня мама. Я не могу ее надолго оставить. Москва – вот я уже рассказала про свой роман. И еще есть города, где мне очень комфортно, где я чувствую себя дома. Я выхожу – и я там дома. Например, очень люблю Португалию. И парадокс в том, что с Португалией меня точно ничего не связывает, а я там чувствую себя дома. Мне очень нравится их быт. Это не Испания. Португальцы другие. Это уют. Это маленькая страна. Это способность жить своим очень комфортным миром. Тихим, спокойным. Мне как провинциалу все это очень симпатично. Много мест на свете, где мне хорошо.
Вы однажды сказали, что после пятидесятой книги собирались завершить карьеру, но увидели плакат Дарьи Донцовой о сотой книге и сказали, не слабо ли мне дойти до сотой книги. То есть Дарья Донцова в некотором смысле вас взяла на слабо.
Да. Именно так.
Недавно вышел сериал «Вражда» про Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд. Не смотрели?
Нет, еще не смотрела, но уже слышала.
Всего восемь серий, старый Голливуд. Скажите, а как с писательницами детективов? Вы дружите, знакомы, враждуете? Как у вас складываются отношения с коллегами?
Это массовое заблуждение, что писатели где‑то кучно собираются, ходят, враждуют. Это же не Голливуд, возвращаясь к сериалу. Это не шоу‑бизнес, не киношка, где люди вынуждены собираться большой группой, чтобы снять фильм. И вот тогда что‑то там происходит – недопонимание, конкуренция, у кого‑то роль лучше, у кого‑то хуже…
У кого‑то платье лучше…
Да. Кому‑то написали больше текста, кому‑то меньше и т. д. Ну это я так себе представляю. Это не моя среда. А писатель в основном, как я уже сказала, это одиночка, который большую часть своего времени проводит наедине с самим собой. И, если честно, все, что происходит наедине с самим собой, настолько интересно, вот лично для меня, что все, что происходит в этот момент с другими, по большому счету мне абсолютно все равно. Авторы, как сказать, больше сами по себе. По крайней мере то, что касается меня. Я всем желаю добра и счастья, но я с трудом понимаю, что мне с кем делить.
Если говорить о моих близких коллегах. У меня выходит три книги в год. Нормальный человек читает, как правило, две книжки в месяц. Я имею в виду людей, которые приучены к чтению. И этому человеку надо что‑то читать, пока я пишу очередную книжку. Поэтому я думаю, мы, наоборот, друг друга поддерживаем. Пока не вышла моя книга, читают моих коллег. И интерес к детективу поддерживается. Потому что если человеку нечего почитать в любимом жанре, он уйдет в сопредельный – в любовный роман, в фэнтези, еще куда‑то. В фантастику вряд ли, но куда‑то там, может покинуть нас. Мы, я считаю, передаем эстафету друг другу. И люди, которые видят проблему с моей точки зрения, они коллег ценят и заинтересованы в том, чтобы те работали хорошо и замечательно, чтобы наши читатели нас не покидали. Люди, которые меряются амбициями, кого больше издают и прочее, я думаю, это просто заняться нечем. Это просто черта характера. Не обязательно быть писателем, он и, работая в офисе, нашел бы повод обидеться, что у кого‑то стол ближе к окну, кому‑то начальник улыбается чаще. Это личностное. Я не думаю, что человека, который серьезно занят своей работой, особенно интересует чужая.
То есть тиражи вы не сравниваете?
Я вообще себя никогда ни с кем не сравниваю. Я считаю, что это довольно глупо. Всегда будут люди, которые лучше тебя, талантливее, красивее. Кто‑то родится английской королевой, а я – нет. И мне по этому поводу что, надо рыдать в подушку и всю оставшуюся жизнь жутко переживать? Что бабушка счастлива на троне, а я, вот, извините, обделена этим? Повод найти, из‑за чего обидеться, пострадать и почувствовать себя несчастной, их масса. Ходи и придумывай для себя. Вопрос – зачем тебе это. Мне точно не нужно. Поэтому я себя никогда ни с кем не сравниваю. И думаю, что в силу возраста уже и поздно начинать.
А бывают же еще доброхоты, которые звонят подруге или знакомой и говорят, а вот там тот‑то и тот‑то, у того‑то тираж больше...
Меня очень счастливо покинули все люди такого плана. Причем они прибивались ко мне по жизни и сами как‑то уходили. Почему? Я для них абсолютно неинтересна, со мной скучно. Потому что человек мне звонит, даже не по поводу моих каких‑то книг, а просто говорит, вот у Марь Иванны там то‑то то‑то. А я на это отвечаю: «Ну почему? У нее там такой хороши мальчик. Он такой замечательный, симпатичный. И чего уж в нем плохого». Она мне опять про то, что он такой‑сякой. А я про то, что я его на днях видела, и ребенок произвел на меня просто очень хорошее впечатление. Ну чего со мной говорить, когда я не откликаюсь на это, на весь этот негатив, злобные выпады и прочее? Поэтому раз позвонили, два, три, ну скучно же. Я человек неинтересный с этой точки зрения. Поэтому мы спокойно расходимся, и никто мне ничего не говорит. Мне могут сказать, вот, условно у Даши Донцовой тиражи больше. Что я на это отвечаю? Что Даша Донцова – молодец. Она гораздо трудоспособнее, чем я. Я‑то вот наваяла 83 романа, а у Даши – в два раза больше. И она вообще человек очень талантливый, хороший, добрый, много полезного сделала. Ну, скажите на милость, после этого чего мне говорить‑то?
Прекрасный способ, друзья. Это лайфхак от Татьяны Поляковой, как отвадить от себя ненужных людей.
Да они сами уйдут. Главное, не спорить, ни в коем случае их не учить ничему, не призывать к совести и прочее. Это значит, что вы вовлекаетесь, понимаете? А когда вы спокойно совершенно от всего этого закрываетесь и просто говорите: «Ну а чего ж такого плохого‑то». Ничто так не бесит людей, как утверждение, что вообще‑то все нормально. И люди вокруг хорошие, и жизнь, в общем, неплоха. Живем же мы, слава богу. Гораздо лучше живем, чем, например, даже 20 лет назад. Я как человек, который очень хорошо помнит то время и сегодняшнее, могу сказать, что да.
Готов согласиться.
Люди, поняв, что с вами бесполезно на эту тему общаться, вас скоренько покинут, и я вас уверяю, ни звонить, ни писать не будут и доставать свои присутствием тоже.
Не могу не задать такой вопрос. Есть такое предубеждение, очень распространенное, вообще к детективам, что это не совсем литература, не совсем искусство, это вообще отдельное что‑то. Что вы по этому поводу думаете? Как на такую критику отвечаете?
А я согласна. А почему нет? У каждого человека может быть свое мнение. Человек считает, что детектив – это не совсем литература, ну и пускай считает. Главное, чтобы он вообще что‑то читал. Я не против, когда люди отзываются таким образом вообще о жанровой литературе. Другое дело, что умный человек, особенно который более‑менее имеет представление о том, что такое жанровая литература и как в ней работать – а жанровая литература очень сложная для написания, потому что там есть очень жесткий каркас, жесткие рамки, которые если будешь нарушать, ну-у-у, если ты, конечно, не супергениальный, поломав все, не создашь что‑то совершенно новое и такое, от чего у всех просто голову снесет, что в принципе очень тяжело, когда все уже изобретено, – и мы возвращаемся от больших форм к малым, если вы заметили.
Я как раз заметил...
Если вы не из этой породы, то вообще в жанровой литературе работать очень сложно. Насколько легко она читается, настолько тяжело пишется. Человек, который работает в, условно назовем, современной прозе... Это же очень размыто – на самом деле, пиши, как считаешь нужным. Хочешь – так, хочешь – так, строй, как угодно, сюжет, можешь вообще не обременять себя сюжетом. Ты вообще можешь все, что угодно, потому что у того, что называется «современная проза», никакого жесткого каркаса, никаких рамок нет. И слава богу. А вот у детектива они есть. И если ты будешь их нарушать, вся конструкция завалится и ничего не получится. Тебе кажется, что ты так все замечательно придумал, а никто читать не хочет и никому это не интересно. Потому что это не детектив. И вообще не очень понятно, что ты такое написал. Как правило, умные люди такого не говорят. А говорят или те, кто очень плохо представляет, о чем говорит, или люди, которые в принципе ничего не читают. Когда мне говорят фразу: «Ой, что вы, я детективов не читаю», – я, как человек любопытный, потому что всегда ищу, чего бы мне почитать, я еще и читатель, не только писатель, я спрашиваю: «А что вы читаете?» И если глаза забегали и человек судорожно пытается вспомнить и говорит: «Ой, вы знаете, я читаю классику», – я все поняла: человек в принципе ничего не читает. И последняя его книга счастливо была прочитана, хорошо, если в институте. Это человек, который читает порядка трех‑четыре книг в год, то есть вообще не читает, с моей точки зрения. Они могут говорить все, что угодно. Это просто желание себя приподнять и сказать, что я не хуже, а лучше. Иногда у меня возникает желание поиздеваться, если мы где‑то в тусовочной среде или в поезде, самолете. И я с очень серьезным видом начинаю расспрашивать, и, как правило, это очень забавно. Но это грустно.
А то, что человеку не нравится. Ну а почему все должны любить одно и то же. Я уже сказала, что не люблю Толстого. Я люблю страсти. Мне вот чтобы все рвалось и рушилось. Поэтому я очень люблю Шекспира, Достоевского. Как вы знаете, Толстой не любил Шекспира. Для него это было табу. У нас несовпадение. Я несколько раз во взрослом состоянии читала Льва Николаевича. Честно, вдумчиво, пыталась. Ну да, история такая. Мало того, что весьма далекая от того, что я люблю, как читатель, – абсолютно фантастическая. Да где же вы видели такого мужчину, который встретил уличную девицу, все бросил, поехал за нею в Сибирь… Это даже не красотка, понимаете! Это еще круче. Это с нашим русским надрывом кинуть все, и неизвестно во имя чего…
А если к Достоевскому обратиться. «Преступление и наказание» – это детектив?
Нет, конечно. Детектив – это жанр. Это жанровая литература. Масса всяких книг с убийством – это вовсе не обязательно детектив. Это может быть от нашего любимого Федора Михайловича до криминального романа. Вот такой разброс. И даже криминальный роман – это криминальный роман. «Крестный отец», какой это детектив? Это криминальный роман. А детектив – это узкий жанр, где ты четко знаешь, что он требует от тебя, и ты это либо выполняешь, либо нет. Сейчас очень мало кто пишет детективы. В том числе и я. Сейчас очень редко пишу то, что четко можно назвать: это детектив. В основном это криминальные романы.
79 процентов ваших читателей – это женщины. Когда начинали писать, вы думали, что пишете для женщин? И вообще, вам обидно? Хочется, чтобы больше мужчин было в процентном соотношении?
Я не особенно себя утруждала такими размышлениями. Я пишу для тех, кому это может быть интересно. Если среди них такой большой процент женщин, это логично. Я сама женщина, и я пишу, как уже сказала, для себя, как для читателя, то есть уже для женщины. Я делаю то, что мне хотелось бы увидеть в готовом виде. Поэтому вполне логично. Когда нравится мужчинам, интересно – замечательно. Бывают встречи совершенно неожиданные. Мне кажется, что вот этот человек никогда не будет читать детектив, да еще женский. Нет, читают. И совершенно нормально. Для меня практически на каждой встрече с читателями бывает какое‑то открытие. Как правило, со стороны мужчин. С женщинами я как‑то привыкла общаться, я про них более‑менее, не буду говорить все, но знаю. А мужчины, бывает, ставят в тупик. Это тоже классно. Это заставляет как‑то по‑другому взглянуть.
По поводу экранизаций. Я насчитал девять или даже десять.
Девять.
И мы уже затронули это, первая экранизация появилась очень быстро. Буквально через два года. Там Александра Захарова играла, Певцов.
Да, очень хорошая, с моей точки зрения.
А последняя вышла буквально в 2017 году. То есть 18 лет. Изменилась индустрия и подход к экранизациям? Вы уже можете это сравнить, отследить?
Я думаю, сейчас это больше имеет отношение к конкретным каналам. Если «Тонкая штучка», насколько я помню, это была продюсерская работа, потому они куда‑то там это, условно говоря, продавали. То сейчас это, как правило, заказ от конкретного канала. А у канала есть своя политика, которой канал следует. Понятно, что на вашем канале не будет того, что будет на каком‑то другом. У каждого своя специфика. Учитывая, что последние экранизации – это был как раз один канал, то и подход был в общем вот такой. Сейчас общая практика, когда покупают права на экранизацию и дальше автор там никоим образом не участвует.
А вы к каким‑то из этих экранизаций писали сценарий?
Нет. Сценарии не писала. И я не вижу себя, по крайней мере, сейчас человеком, который пишет сценарии. Потому что это не разовое. Сценарист в работе все время, пока идет процесс. И он не волен, как я. У него есть определенные рамки. Это другая профессия.
То есть не писали и не было такого желания?
Не было.
А если бы вас попросили?
Были моменты, когда мне предлагали даже не по моим книгам писать сценарии, а просто написать сценарий. Так как это будет для меня что‑то новое, боюсь, что потрачу такое количество времени и не факт, что мне это придется по душе. Я поняла, что мне комфортнее в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас. Наверное, когда‑то это закончится. Если вдруг такое произойдет, то, может быть, я займусь написанием сценариев или еще чем‑то. Потому что вообще не писать… Я с трудом представляю себя в роли человека, вообще не пишущего. У меня есть давнее желание написать пьесу, такую, смешную. Это ближе, может быть, но тоже совершенно другое. Драматург театральный и сценарист – это тоже две большие разницы. Может быть когда‑нибудь при стечении звезд что‑то произойдет. Но пока – нет.
А какие‑то консультации, когда шла работа над фильмом, у вас брали?
Нет.
Просто потом вы видели уже финальный результат?
У меня были очень хорошие контакты с продюсером, который делал три последних сериала. Мы с ним очень хорошо общались. Я была в курсе того, что там происходит, но участия никакого не принимала. И думаю, что это никому не нужно. Потому что кино – это коллективный вид искусства. И мой авторский взгляд – я приду, это ж все мое… В идеале надо не только самому сценарий писать, самому фильм снимать в качестве оператора, режиссера, но еще надо и все роли сыграть. Бред абсолютный. Я считаю, что автору лучше не соваться. Это очень выигрышная позиция. Как замечательно сказал наш классик, если уж сделали хороший фильм – ну а чего же по хорошей книге хороший фильм не сделать. А сделали плохой – испортил песню, дурак.
Считается, что авторы всегда недовольно экранизациями.
Да. Потому что у автора есть свое видение, мы их всех видим. Они не абстрактные. Они все совершенно живые. Со своим лицом. Со своим поведением. Я его вижу. Представьте, ваш очень близкий человек, вы приходите, вам выводят какого‑то незнакомца и говорят: «Вот это – ваша жена». Вы как отреагируете? Вы скажете: «Уберите, пожалуйста, эту женщину. Я ее знать не знаю». (смеются)
Смотря кого приведут.
Ну да, да. Это как раз счастливое совпадение. Когда авторам нравится – вдруг привели женщину, которая показалась вам гораздо интереснее собственной супруги. И вы сказали: «Да. Супер! Фильм хороший». А вообще, как правило, недовольны.
Вы очень много читаете, неоднократно говорили об этом в интервью. Я ознакомился с вашим списком десяти главных книг и нашел там только один детектив – «Записки Шерлока Холмса» Артура Конан Дойла.
Ну это же классика. Когда я составляю подобные списки, мне хочется, чтобы люди почитали то, что я считаю основополагающим. То, что должно быть в базе каждого человека. Детектив – это на самом деле развлечение. И это не обидно. По большому счету и кино – развлечение. Цирк – развлечение. Литература – по большей части вся развлечение. Все это создано для того, чтобы мы не трудились, а развлекались. А вот как мы развлекаемся, с пользой или без, дает это что‑то нашей душе и уму или нет, это уже другой вопрос. Поэтому мне всегда хочется посоветовать то, что мне кажется необходимым. Там нет личных пристрастий – вот, читайте обязательно Полякову.
Кстати, по поводу Конан Дойла. Шерлок Холмс – самый экранизируемый персонаж. Доктор Хаус и Умберто Эко «Имя розы» появились благодаря Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, эти люди там считываются. Какая-то потрясающая история. А как вы думаете, в чем феномен Конан Дойла? Его притягательность, которая не проходит уже столько времени?
Все‑таки проходит. Я думаю, в плане сопутствующей культуры Шерлок Холмс – это как Элвис Пресли, это уже ушло в другой культурный пласт. К сожалению, читают гораздо меньше. Если все‑таки говорить не о докторе Хаусе и прочая, а именно о книге «Записки Шерлока Холмса», читают гораздо меньше. К сожалению. Я хорошо помню, как у меня отобрали книжку в восьмом классе. Я сидела, на коленках ее держала и на физике читала. И прокололась, у меня ее отобрали. И учитель сказала: «Придешь завтра, заберешь». До меня потом дошло, что человек просто хотел ее прочитать. То есть было желание читать. Сейчас – нет. Реально есть очень многие люди, которые его не читали. В мое время найти человека читающего, который не читал «Шерлока Холмса», ну, не знаю… это было невозможно. А сейчас счастливо живут. У меня есть теория, что книга живет активно в жизни 50 лет. Через 50 лет она уходит. Если нет каких‑то вещей, которые искусственно продлевают этот период. Например, долгий запрет, как на Булгакова. Или долго не переводили, книга жила на Западе. К нам же, Хемингуэй пришел, например, чуть‑чуть позднее, и он у нас чуть дольше был в топах, когда – я очень хорошо помню – им зачитывались все. И это было просто что‑то. Хэм – это Хэм. У меня муж носил свитер толстой вязки а‑ля Хемингуэй. И прочая. Это было стильно, модно, и каждый образованный человек должен был знать чуть ли не близко к тексту. А сейчас этого уже нет. К сожалению, не к сожалению, это процесс. Мы‑то, старшее поколение, можем ностальгировать, но мы всегда считаем, что все хорошее было, когда мы были молодыми. А сейчас другие вещи приходят на смену. И эти 50 лет имеют значение. Все‑таки любому человеку интересно читать про себя. А 50 лет – это очень много. Это уже точно не про себя. Поэтому люди от этого отходят, им интереснее то, что ближе к ним и происходит именно сейчас.
А вы считаете, что читать стали меньше, да?
А я вижу, что читают меньше.
В принципе, очевидный факт. Что с этим делать? Нужно ли что‑то делать? Какая‑то популяризация чтения?
Наверное, нужно. Но вопрос‑то не в том, сколько человек прочтет. Я такое количество начитанных дураков в своей жизни встречала, что лучше бы просто ничего не читали. Другое дело, как читать. Ведь можно и детектив прочитать и вынести очень много всего. Поставить себе вопрос, а как бы я в такой ситуации поступил? А где та грань, за которую я готов перешагнуть? Или не готов? Чем я готов поплатиться? Например, ради денег. Сейчас это очень настойчиво, мы все хотим денег. Это на самом деле нормально. Мы все хотим много денег. Чтобы нам хватило на ту жизнь, о которой мы мечтаем. В этом нет ничего плохого. Это просто пришло к нам позднее. Я имею в виду, вместе с возвратившимся капитализмом. А в Америке «Американская трагедия» написана еще в начале прошлого века. Вот эта идея: кто я против денег. Эти вопросы человек себе обязательно задает, когда читает детектив. Если он его увлек, и он следит за историей, его это волнует. Он их задает себе и на них отвечает. И в этом есть та польза чтения, о которой мы говорим и чего мы ожидаем. Человек сам себя воспитывает. Воспитать его иначе нельзя. Все слова со стороны идут, как правило, по поверхности и редко задерживаются в голове. Если, конечно, это не производит какого‑то ошеломляющего впечатления.
А своему сыну вы прививали любовь к чтению?
Да. Он у меня очень долго читал одну книжку. Где‑то, наверное, класса с восьмого по десятый он читал одну книгу, что‑то про индейцев, я сейчас уже не помню. Он мне честно говорил, что читает, но счастливо переходил с 20‑й страницы на 25‑ю. Естественно, он читал то, что задавали по литературе, за этим я следила. А здесь я думала: «Боже мой, у нас вся семья – без книжек никуда, а ребенок у меня не читает». Потом получилось так, что мы были на даче и была плохая погода. Сплошные дожди. И я подумала, почему я думаю, что он маленький, все каких‑то индейцев ему предлагаю читать, что‑то такое адаптированное для детского возраста. И дала ему «Хроники Амбера», первый том. Он у меня просидел на веранде до глубокой ночи, вернулся – прочитал первый роман, сразу же потребовал второй, в течение недели он прочитал все «Хроники Амбера», весь цикл. Потом он меня спросил, а что есть подобное. Я ему стала потихонечку подкладывать, подкладывать. И мы плавно перешли на литературу, так сказать, другого типа. К окончанию школы он читал и «Сто лет одиночества», и Борхеса, и всех авторов, которых я считаю весьма и весьма достойными. Он был очень горд, когда услышал, как «Би‑2» пели «Полковнику никто не пишет». Он сразу все это считал, о чем и прочее. Со своими ребятами дискутировал, был в теме, и ему это нравилось. Важно разговаривать. Предлагать, рассказывать. И совершенно идиотский способ попытаться заставить ребенка читать – когда ты сам ничего не читаешь.
Пример – это самое главное.
Конечно. Когда мама в лучшем случае с журналом, а тебе говорит: читай, это значит, что ты поражен в правах. Тебя заставляют делать то, что взрослые не делают. Поэтому мало того, что тебе не хочется это делать, ты еще начинаешь отстаивать свою независимость и не читаешь уже не потому, что тебе неинтересно, а потому, что просто отстаиваешь свою независимость. Всегда надо начинать с того, что есть в семье.
Личный пример, друзья.
Да. И разговор. О прочитанном.
Возвращаясь к списку из десяти книг. Просто хочу сказать нашим зрителям, что там и Грибоедов, и Бестер, роман «Тигр! Тигр!». Причем вы говорите, что этот роман во многом повлиял на вас как на автора. Вот как раз, что герой не обязательно должен быть положительным.
Да. Вот именно герой, который совершает не совсем хорошие поступки, скажем так. Он и так на грани. А плюс еще, помните момент, когда он бросает женщину, которая за него готова умереть. А он ее просто бросает и двигается дальше. Для нормальной женщины, я считаю, это поступок совершенно жуткий. И для меня было парадоксально, что я продолжаю ему сочувствовать, следить за его историей, хотя в этот момент мне надо было закрыть книжку, отбросить и сказать: «Не буду я тратить время на этого негодяя». Это как раз мастерство автора.
«Бесы» Достоевского. Это, кстати, мой любимый роман Федора Михайловича.
Согласна.
Был очень рад его увидеть в вашем списке. Рассказы Хемингуэя. Харпер Ли «Убить пересмешника». Фолкнер «Осквернители праха». Томас Манн «Иосиф и его братья». Булгаков «Мастер и Маргарита». И Ремарк «Три товарища» – лучшая книга о дружбе. Вот, друзья мои, книги, которые Татьяна Полякова называет главными в своей жизни.
Подходит к концу наша беседа, мы так заговорились, спасибо вам большое. Как я уже говорил, подавляющее большинство наших зрителей – это люди, которые сами пишут. Стихи, прозу. Есть ли у вас какой‑то совет для тех, кто пытается писать. Совет от человека, который достиг многого в профессии.
Единственный способ научиться писать – это писать. Другого способа никто не изобрел. Если вы чувствуете это в себе, надо двигаться, надо работать. Надо обязательно читать. Не хотелось бы уподобиться известному анекдоту о чукче. Смотреть, что происходит. Быть всегда на гребне волны, все, что касается современного, интересного, даже модного, потому что модное – не обязательно плохое. Очень часто модное бывает и интересно, и своевременно…
Я тоже всегда так считал…
И актуально. В общем, надо жить этим. Надо жить жизнью в литературе.
А когда вы успеваете читать?
А я практически не включаю телевизор. Людям, у которых нет времени, мой совет очень простой: отнесите телевизор соседям. Буквально на две недели. У вас образуется огромное количество времени.
Многие люди сейчас не смотрят телевизор. Но интернет…
Вы поняли, что я имею в виду. Уберите телефон. Выбросьте планшет или айфон, айпад. И заведите для звонков обычную «Нокию». Время у вас появится. Я это точно знаю. У меня был очень смешной эпизод, когда моя подруга на все мои призывы отправиться туда‑то или туда‑то говорила: «Ой, что ты, у меня нет времени, куда мне». В общем, сплошные отговорки. И вдруг она мне однажды звонит и говорит: «Слушай, представляешь, придурки, отключили кабельное. Я сижу второй день без телевизора, не знаю, что делать». (смеются).
Прекрасно. То есть даже в тот момент, когда вы работаете над книгой, вечером у вас находится время, и это как раз отдых. Вам не мешает, что вы сейчас в своем мире?
Нет. Я вам более скажу, может быть, кощунственную мысль, я могу читать три‑четыре книжки одновременно. Я могу читать детектив, что‑то из современной прозы, что‑то по философии, что‑то по профессии, например, того же Ландау (имеется в виду Нил Ландау – примеч. ред.) или еще что‑то. Или какую‑нибудь замечательную книгу из серии «Как стать счастливой за три дня». Я и такое, бывает, читаю. Даже в такой литературе ты иногда находишь очень много полезного и интересного. Это не значит, что я в течение дня читаю все три‑четыре‑пять книг. Но вот у меня сейчас такое желание – я читаю это, на следующий день больше читаю другое. Я, например, некоторых авторов не могу читать подряд. Я от них устаю. То есть авторов, которых я очень уважаю, люблю их. Но, например, читаю сто первых страниц – ну, супер, я в восторге. А потом чувствую, что начинаю тормозить, меня что‑то раздражает, что‑то мешает. Значит, надо сделать перерыв и почитать кого‑то другого. Читать можно по‑разному.
И еще у меня есть один вопрос. Он был не финальный, но почему‑то остался на финал. Вы родились и всю жизнь прожили в городе Владимире. А когда пришел успех, не было желания, искушения уехать жить в Москву, в Питер, за границу?
Вы знаете, я все‑таки пришла <в профессию> во взрослом состоянии. Мне было 38 лет, когда вышла моя первая книжка. Я была уже человек сформировавшийся, со своими устойчивыми привычками. И башню от внезапной популярности мне не сносило. Или от того, что я деньги стала получать собственные, а не мужнины. Мы почти сразу купили квартиру в Москве. Почему? Потому что я часто приезжаю сюда. Было по работе много всего. Мы останавливались у друзей. И, по русской привычке, мы не просто останавливались, но и сидели там за полночь. И мы‑то потом спокойно отсыпались, а людям надо было с утра ехать на работу. В какой‑то момент мы поняли, что это очень нечестно. Дружба дружбой, но надо и совесть иметь. Поэтому мы очень быстро купили квартиру в Москве, и я с 2001 года, по‑моему, прописана в Москве, то есть по паспорту – московский житель. Это связано с налогами, со всеми такими вещами, далекими от моих пристрастий. У меня долго не складывался роман с Москвой. Меня очень многое раздражало, как человека провинциального. Но парадокс в том, что мы вообще‑то из московского купечества. И мои предки, прабабушка – из семьи, которая лавки держала в Китай‑городе. И получилось так, что, абсолютно не выбирая, мы купили квартиру как раз в Китай‑городе. Я имею в виду, не выбирая место, мы просто смотрели, где нам казалось интересным, вдруг оказались в местах обитания предков. Папа у меня до первого класса жил в Москве. Потом они уехали в эвакуацию и больше не вернулись, так жизнь сложилась. Но в Москве всегда было очень много родственников. Папа очень любил приезжать.
Потом, по нашей семейной легенде, Васнецов писал Илью Муромца с моего прапрапрадеда, крестьянина Владимирской губернии Ивана Перова. Поэтому мы, когда приезжали в Москву, первым делом всегда шли с папой в Третьяковскую галерею. Это у нас называлось «поздороваться с дедушкой». И тамошние бабушки‑смотрительницы нас хорошо знали, когда мы шли, они здоровались и спрашивали: «К дедушке приехали?» И это было очень мило. В общем, в какой‑то момент я пыталась понять, почему мне так некомфортно. И поняла, что это синдром провинциального человека, который в большом городе не нашел своего места. Когда мы купили квартиру и пошли как‑то вечером на бульвары, я очень хорошо помню, что шел снег, и на бульварах еще эти фонари в виде блинов висели, сейчас их давно сняли. И мы шли, эти блины раскачивались, шел снег и ни души народу. Мы с мужем шли, и на снегу оставались только наши следы. И так тихо было. И я поняла, что Москва – то место, где мне очень хорошо. С этой минуты наш роман моментально стал складываться.
Я не могу сказать, где я живу сейчас. У меня дети живут в Петербурге, и я при первой возможности еду к внукам, к детям. Во Владимире у меня мама. Я не могу ее надолго оставить. Москва – вот я уже рассказала про свой роман. И еще есть города, где мне очень комфортно, где я чувствую себя дома. Я выхожу – и я там дома. Например, очень люблю Португалию. И парадокс в том, что с Португалией меня точно ничего не связывает, а я там чувствую себя дома. Мне очень нравится их быт. Это не Испания. Португальцы другие. Это уют. Это маленькая страна. Это способность жить своим очень комфортным миром. Тихим, спокойным. Мне как провинциалу все это очень симпатично. Много мест на свете, где мне хорошо.
Евгений Сулес
