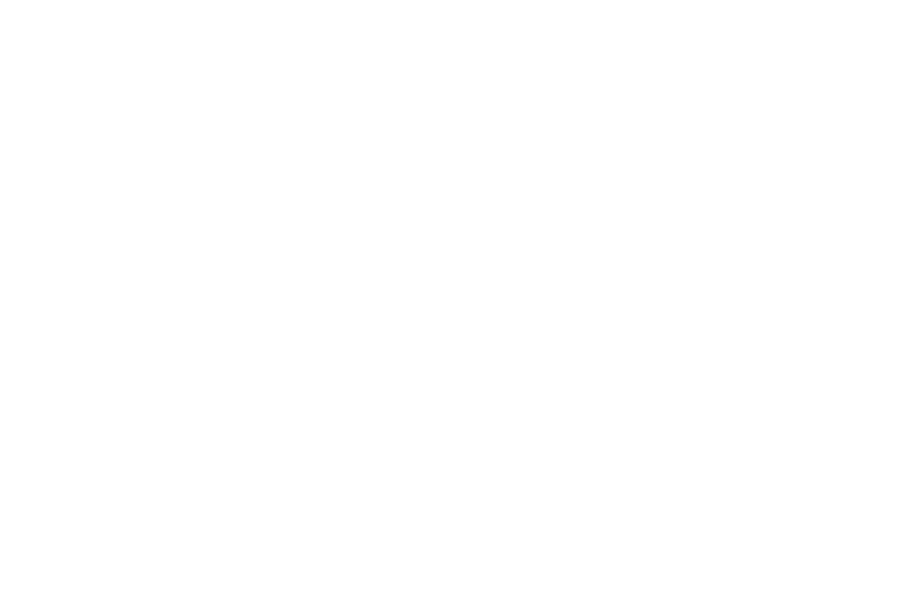
Влад Маленко
Вопросы: Евгений Сулес
Сегодня у нас в гостях поэт и баснописец, режиссер и актер, основатель и художественный руководитель Московского театра поэтов, также художественный руководитель «Есенин‑Центра» и фестиваля молодой поэзии и драматургии «Филатов Фест» Влад Маленко. Здравствуйте, Влад.
Здравствуйте, Евгений.
Влад, а вы помните, какую басню читали, когда поступали в «Щепку» (Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. – примеч. ред.).
Конечно, помню. Еще Николай Александрович Анненков, ему было сто лет, он встрепенулся, когда услышал слово «ворона». И «лисица». – «Ворона и лисица» (смеется). Все прям по канонам.
Когда сейчас студенты, молодые ребята, девчонки поступают с вашими баснями, что вы чувствуете?
Я уже ничего не чувствую (смеется).
Хорошо, в первый раз, когда вы об этом узнали?
Конечно, это большая радость. Особенно когда приезжаешь в отдаленные места, на Дальний Восток, и та же самая картина. Знаете, внутри театра ведь люди не любят, когда кто‑то из их цеха имеет успех где бы то ни было.
Это тяжело.
Я помню, мы приехали с «Таганкой» (здесь и далее: Театр на Таганке – примеч. ред.) в Екатеринбург и мои товарищи пошли в свое же училище театральное. И пришли с такими вот глазами: «Слушай, там тебя читают». Я говорю: «Ну да, безделица».
А они на экзамен пошли?
Да, они пошли к своим же педагогам и были жутко удивлены.
А баллы не снижают? Иногда же бывает – только Крылов, не дай бог что‑то другое.
Мне один мальчик из Школы‑студии МХАТ недавно рассказал: «А вот теперь басня». Он говорит: «Маленко». – «Стоп. Не надо. Вот давайте, пожалуйста, Крылова что‑нибудь».
Попал на ретроградов…
Нет, они просто знают, что будет, наверное, «Ондатра в театре».
Это самая популярная? «Ежи‑скинхеды» и «Ондатра», да?
«Ондатра», конечно, потому что там про театр, и абитуриенты считают, что этим они подкупят, таким знанием театральной жизни…
Прекрасно. Вы помните, когда написалась первая басня? Что это было? И сколько вам было лет? Вы были студентом? Уже актером?
Да, конечно. Уже сложившийся я был человек. Вспоминаю это, и даже, по‑моему, в предисловии к своей новой книжке «Басни» я написал, что первая басня была написана от отчаяния и тоски. В мокром феврале 2003 года. И называлась она «Утюг-одиночка». А потом уже вышла под названием «Утюг и мясорубка». И это, действительно, не смешно. В том смысле, что я оказался вне работы, без театра. Так иногда бывает в жизни человека, что он из‑за своих принципов лишается работы.
Это когда вы уже ушли из «Таганки»?
Да.
То есть это 20 лет «Таганки», и только потом…
Не 20 лет.
А, вы несколько раз уходили.
Там у меня еще были тайные переговоры с Юрием Петровичем, пока его жена уезжала в мебельный магазин. И мне так в спину говорили: «Ну, этот не пропадет». А я не знал, что делать. Правда. И когда я начинал писать, вообще писать, я понимал, что если буду себя исчерпывать, вот таким образом, поэзией, то я не протяну. Мне нужно было включение, такое, булгаковское. От этого отчаяния, тоски, от такого метафизического ощущения мне представилась ночью булгаковская коробочка, вот правда, как какие‑то странные существа ходят и спрашивают у меня: «Куда нам дальше идти?» И вроде как я должен им подсказать. И тогда я понял, что могу быть там, с ними, и актером, и режиссером, и продюсером, и директором. И это палочка‑выручалочка. То есть я занялся вот этим миром. Как говорил Михаил Афанасьевич от лица Максудова в «Театральном романе»: «Этот мир – мой». Но, конечно, потом Максудов понял, что его ожидает там… И вот так вот появились басни.
Басни – это такая анестезия, что ли. Басня – это как жена. Которая готовит на кухне щи, подметает и спасает быт. Да, это сложно. Это высший пилотаж мастерства, потому что в короткие, узкие стихотворные рамки заложить историю, да сделать еще, чтобы она была легкой, да еще смешной, да еще современной – это, конечно, задача сложная. Правда. Я так отстраненно говорю. Это я не себя хвалю сейчас…
Про жанр, конечно.
Я говорю про жанр. Потому что сейчас, если каких‑то людей тянет, я даже знаю, каких, в басню, они сразу начинают уходить в подражание Крылову, с таким, тяжеловатым языком. Но это вроде как басня. Совершенно не подозревая, что басня может быть другой. И что Высоцкий вдруг легко спел нам порядка десяти басен. Начиная с «Жирафа», этих влюбленных идиотов в его песне, козлов отпущения, мангустов и так далее.
Очень интересный момент вы сказали. Получается, что при всей игривости жанра, какие‑то животные, все так смешно, а вы говорите про отчаяние и одиночество.
Конечно. Я очень не люблю слово «юмор». Я не люблю слово «любовь». Или еще какое‑нибудь такое громкое слово. Но вы же понимаете, что клоун – это высший пилотаж артиста. И чтобы было смешно… Эта смеховая история требует горечи…
Гораздо больше. Заставить людей плакать проще.
Конечно. Да дал просто в лоб и все.
А меня больше вот что сейчас удивляет. Все‑таки всегда басня воспринимается как что‑то социально‑зло‑сатирическое. А вы говорите про отчаяние и одиночество внутреннее. Вот это очень интересно.
Да. Но, может, потому что я с «Таганки». Родом с этих подмостков, из этой пыли уличного театра, где нас, в общем, отбирали и приучали к возможности говорить со зрителем своим языком, говорить про то, что сейчас на дворе. Поэтому нет разницы между социальным высказыванием и личным. Собственно, это и есть лирика. То, что от тебя идет. Поэтому у меня какие‑то герои очень близки ко мне, я на самом деле не стесняюсь сказать, что это мои какие‑то и грешки, и грехи, и грехища.
Все, как Гоголь, берете из себя. Всех этих персонажей. Известное его высказывание про «Мертвые души». «Откуда вы берете все эти рыла?» – «А я беру их из своей души».
Правильно он сказал. Хотя, конечно…
Не только из своей…
Ну, понятно, он гениальный самый, один из самых гениальных, непонятных гениев…
Но при этом басня – довольно‑таки едкий жанр. Вы вообще едкий человек?
Заточка головы такая. Это просто способ мысли такой. Я вам больше скажу. Чем прекрасна профессия актера? Ты на сцене, ну, хороший актер, в какую‑то секунду можешь почувствовать себя абсолютно свободным человеком. Свободнее, чем ты на кухне, в метро, с друзьями у ларька. Потому что ты вдруг можешь встать и сказать все, что ты думаешь, можешь уйти. Ты этого не делаешь, потому что есть как бы такое снисхождение. И в творчестве, в любом, когда ты находишь свой уют, свой мир, ты становишься свободным. А когда ты становишься свободным, ты можешь быть каким угодно острым, ты можешь ерничать. Ты свободен, как тот шут, который говорит королю всю правду. Самое главное, мне кажется, вообще в творчестве, чего не подозревают очень многие, – это уют и свобода. То есть возможность выстроить свой мир, в котором только твои законы. Только твои. Другое дело, здесь не должно быть шизофрении. Многие доходят до того, что им кажется, что этот мир понятен еще кому‑то. Должен быть стереовзгляд, чтобы ты понимал, а как другому человеку, который сейчас с тобой сидит, чтобы твои слова до него доходили, откликались в нем. Чтобы ты это чувствовал, понимал, и тебя радовало его тепло, а не свое.
А сегодня басни пишутся? Находится материал внутри себя, снаружи.
Это очень трудно. Очень тяжело.
А с чем связано? Как вам кажется?
Да с ленью, может. Это требует скрупулезного погружения. Это как кино снимать. Хорошее, авторское кино. Угол зрения выстраивать. Находить фабулу. Сегодня век такой... Вот мы сколько с вами разговаривали?
Минут 10‑12.
Вот. 10 минут. А в Telegram-канал какой‑нибудь за это время пришло 100 постов уже. И там могут быть даже стишки какие‑нибудь легкие. Никто не парится. Вон у нас деятель есть, который песенки поет такие так себе, он теперь дежурный поэт как бы. Он графоман, но его все читают, думают, это поэзия. А на самом деле. Ну как в стране, где был Высоцкий, вот его читать? Как‑то странно.
Но так можно, наверное, про многих сказать. Если уж брать такие планки – Высоцкий…
Конечно.
Кого поставишь рядом? Как‑то даже боязно.
Кого, Башлачева можно рядом поставить. Егора Летова.
Ну, понятно. Я имею в виду из живых. Имею в виду, и вам же можно такое, наверное, сказать?
Да пускай попробуют скажут мне!
Ну, хорошо. Скажите, басня возможна без морали?
Конечно. Возможна.
Насколько это законсервированный жанр? И чем отличается басня XIX века от современной? Какое развитие жанра происходит?
Слушайте, ну чем прекрасен Иван Андреевич Крылов? Он легко, по‑русски и очень хлестко перевел нам то, что сделал Эзоп, что сделал Лафонтен. Мы с вами знаем, наверное, порядка семи вариантов «Стрекозы и муравья». Про ворону и лисицу штучек пять‑шесть. Кто только не баловался. И Измайлов, и Новиков, и Тредиаковский, и Ломоносов. Пушкин – молодец, он вообще понимал, что не надо туда лезть, написал одну басню про сапожника и художника и успокоился. Но у них у всех это было как‑то тяжеловато. А Крылов это сделал прекрасно и легко. Легко! Ключевое слово – легко. И Крылов – это и есть басня XIX века. Мы, конечно, знаем Козьму Пруткова, но это, скорее, не басни, а некоторые сентенции. Чем отличается от нынешней? Мне сложно изнутри разговаривать об этом. Я понимаю, что был Сергей Владимирович Михалков, который замечательно писал басни. Были…
Он, кстати, написал предисловие к одной из ваших книг.
Да. Это для меня предмет радости большой.
Я догадываюсь.
Это – «старик отметил». Здорово это, правда. Эрдман Николай Робертович хорошие писал басни. Да я вот и говорил, Владимир Семенович Высоцкий, у которого прекрасное образование получено, от Синявского, кстати, в Школе‑студии МХАТ. Эти его блатные песенки – это ж тоже побасенки. Эти его герои, какая разница, это какой‑то крот там у него или какой‑то Васек. Это все равно не Высоцкий.
Да, рассказчик яркий есть. Тогда, может быть, прочтете одну басню, просто чтобы наши зрители…
Да ну. Пускай откроют, почитают…
Просто в вашем прочтении басня – это отдельный…
Я бы прочитал, если бы помнил новенькую. У меня есть такая басня «Религиозная лиса». Но, знаете, сейчас доставать это…
Тогда мы дадим домашнее задание зрителям, кого заинтересовал наш разговор о баснях. «Религиозная лиса» – меня лично название уже заинтересовало, я после интервью обязательно прочту.
Знаете, что можно найти, что круто по‑настоящему, это как Бортник Иван Сергеевич, ныне покойный, великий русский актер, читает мою басню «Крот в запое». Я когда‑то делал такую пластиночку и позвал туда своих знаменитых товарищей.
Да. Целая пледа.
Да. И что меня поразило, из всех этих прекрасных мастеров, включая музыканта Юрия Шевчука, прекрасную актрису Марину Голуб, Полину Кутепову, Никиту Высоцкого, Александра Клюквина, только два человека пришли с выученным текстом. А еще они достали листочки, там были пометки, акценты. Это были Валерий Золотухин и Иван Бортник. Коллеги по театру и друзья.
Старая школа.
Старая школа. Они пришли заранее…
Без опозданий…
Да. Они волновались. Они распевались (показывает голосом, как). Это не так что: «Давай быстренько. Ну, давай текст…» (изображает суету).
«У меня сейчас еще одна съемочка…»
И это видно. И это слышно. Вот Золотухин, например, читал басню «Мнительный жучок». Он и на концертах потом стал ее читать. (Выразительно читает) Однажды мнительный жучок… В общем, в этом была какая‑то хирургическая работа. Я, да не как автор, я как зритель рот открыл и с радостью внимал, слушал. Как чужую какую‑то басню.
А у вас вообще есть талант к пародии. Может быть, не все зрители знают, помнят, что в передаче «Куклы» вы озвучивали многих персонажей.
Да.
Я сейчас, готовясь к передаче, смотрел ваши интервью, вы, когда начинаете про кого‑то говорить, иногда показываете, а иногда даже не показываете, но все равно вдруг интонация проскальзывает.
Мне один, как сказать, я боюсь слова «поэт», потому что это отчасти посмертное звание. Один собрат по перу, мне кажется, из зависти, мне сказал: «Все‑таки основной твой талант – это твой голос. Голос, как ты его меняешь. А остальное – это так, средненько».
Я не согласен с ним.
Влад, вы даете много интервью. Есть нелюбимые вопросы? Которые уже набили оскомину, постоянно спрашивают или просто надоели?
Да нет, я немного даю интервью.
Ну, хорошо, некоторое количество давали? Есть нелюбимые вопросы.
Мне кажется, все не любят вопросы про планы, потому что ну что планы…
Про планы я все равно сегодня спрошу. Планы не ваши лично, а «Есенин‑Центра», например. Или театра поэтов.
Я не люблю вопросы про личную жизнь. Я считаю это закрытой темой.
Как я вас за это уважаю.
Помню, будучи студентом, я начал читать письма Пушкина к жене. Так это интересно! Но мне в конце концов стало стыдно.
Да, есть такое.
Потому что там, в общем, идет семейная жизнь, куда не надо нос совать. Там вопросы, связанные с бытом, с деньгами, какие‑то еще личные секреты мужа и жены. Ну что это...
Здравствуйте, Евгений.
Влад, а вы помните, какую басню читали, когда поступали в «Щепку» (Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. – примеч. ред.).
Конечно, помню. Еще Николай Александрович Анненков, ему было сто лет, он встрепенулся, когда услышал слово «ворона». И «лисица». – «Ворона и лисица» (смеется). Все прям по канонам.
Когда сейчас студенты, молодые ребята, девчонки поступают с вашими баснями, что вы чувствуете?
Я уже ничего не чувствую (смеется).
Хорошо, в первый раз, когда вы об этом узнали?
Конечно, это большая радость. Особенно когда приезжаешь в отдаленные места, на Дальний Восток, и та же самая картина. Знаете, внутри театра ведь люди не любят, когда кто‑то из их цеха имеет успех где бы то ни было.
Это тяжело.
Я помню, мы приехали с «Таганкой» (здесь и далее: Театр на Таганке – примеч. ред.) в Екатеринбург и мои товарищи пошли в свое же училище театральное. И пришли с такими вот глазами: «Слушай, там тебя читают». Я говорю: «Ну да, безделица».
А они на экзамен пошли?
Да, они пошли к своим же педагогам и были жутко удивлены.
А баллы не снижают? Иногда же бывает – только Крылов, не дай бог что‑то другое.
Мне один мальчик из Школы‑студии МХАТ недавно рассказал: «А вот теперь басня». Он говорит: «Маленко». – «Стоп. Не надо. Вот давайте, пожалуйста, Крылова что‑нибудь».
Попал на ретроградов…
Нет, они просто знают, что будет, наверное, «Ондатра в театре».
Это самая популярная? «Ежи‑скинхеды» и «Ондатра», да?
«Ондатра», конечно, потому что там про театр, и абитуриенты считают, что этим они подкупят, таким знанием театральной жизни…
Прекрасно. Вы помните, когда написалась первая басня? Что это было? И сколько вам было лет? Вы были студентом? Уже актером?
Да, конечно. Уже сложившийся я был человек. Вспоминаю это, и даже, по‑моему, в предисловии к своей новой книжке «Басни» я написал, что первая басня была написана от отчаяния и тоски. В мокром феврале 2003 года. И называлась она «Утюг-одиночка». А потом уже вышла под названием «Утюг и мясорубка». И это, действительно, не смешно. В том смысле, что я оказался вне работы, без театра. Так иногда бывает в жизни человека, что он из‑за своих принципов лишается работы.
Это когда вы уже ушли из «Таганки»?
Да.
То есть это 20 лет «Таганки», и только потом…
Не 20 лет.
А, вы несколько раз уходили.
Там у меня еще были тайные переговоры с Юрием Петровичем, пока его жена уезжала в мебельный магазин. И мне так в спину говорили: «Ну, этот не пропадет». А я не знал, что делать. Правда. И когда я начинал писать, вообще писать, я понимал, что если буду себя исчерпывать, вот таким образом, поэзией, то я не протяну. Мне нужно было включение, такое, булгаковское. От этого отчаяния, тоски, от такого метафизического ощущения мне представилась ночью булгаковская коробочка, вот правда, как какие‑то странные существа ходят и спрашивают у меня: «Куда нам дальше идти?» И вроде как я должен им подсказать. И тогда я понял, что могу быть там, с ними, и актером, и режиссером, и продюсером, и директором. И это палочка‑выручалочка. То есть я занялся вот этим миром. Как говорил Михаил Афанасьевич от лица Максудова в «Театральном романе»: «Этот мир – мой». Но, конечно, потом Максудов понял, что его ожидает там… И вот так вот появились басни.
Басни – это такая анестезия, что ли. Басня – это как жена. Которая готовит на кухне щи, подметает и спасает быт. Да, это сложно. Это высший пилотаж мастерства, потому что в короткие, узкие стихотворные рамки заложить историю, да сделать еще, чтобы она была легкой, да еще смешной, да еще современной – это, конечно, задача сложная. Правда. Я так отстраненно говорю. Это я не себя хвалю сейчас…
Про жанр, конечно.
Я говорю про жанр. Потому что сейчас, если каких‑то людей тянет, я даже знаю, каких, в басню, они сразу начинают уходить в подражание Крылову, с таким, тяжеловатым языком. Но это вроде как басня. Совершенно не подозревая, что басня может быть другой. И что Высоцкий вдруг легко спел нам порядка десяти басен. Начиная с «Жирафа», этих влюбленных идиотов в его песне, козлов отпущения, мангустов и так далее.
Очень интересный момент вы сказали. Получается, что при всей игривости жанра, какие‑то животные, все так смешно, а вы говорите про отчаяние и одиночество.
Конечно. Я очень не люблю слово «юмор». Я не люблю слово «любовь». Или еще какое‑нибудь такое громкое слово. Но вы же понимаете, что клоун – это высший пилотаж артиста. И чтобы было смешно… Эта смеховая история требует горечи…
Гораздо больше. Заставить людей плакать проще.
Конечно. Да дал просто в лоб и все.
А меня больше вот что сейчас удивляет. Все‑таки всегда басня воспринимается как что‑то социально‑зло‑сатирическое. А вы говорите про отчаяние и одиночество внутреннее. Вот это очень интересно.
Да. Но, может, потому что я с «Таганки». Родом с этих подмостков, из этой пыли уличного театра, где нас, в общем, отбирали и приучали к возможности говорить со зрителем своим языком, говорить про то, что сейчас на дворе. Поэтому нет разницы между социальным высказыванием и личным. Собственно, это и есть лирика. То, что от тебя идет. Поэтому у меня какие‑то герои очень близки ко мне, я на самом деле не стесняюсь сказать, что это мои какие‑то и грешки, и грехи, и грехища.
Все, как Гоголь, берете из себя. Всех этих персонажей. Известное его высказывание про «Мертвые души». «Откуда вы берете все эти рыла?» – «А я беру их из своей души».
Правильно он сказал. Хотя, конечно…
Не только из своей…
Ну, понятно, он гениальный самый, один из самых гениальных, непонятных гениев…
Но при этом басня – довольно‑таки едкий жанр. Вы вообще едкий человек?
Заточка головы такая. Это просто способ мысли такой. Я вам больше скажу. Чем прекрасна профессия актера? Ты на сцене, ну, хороший актер, в какую‑то секунду можешь почувствовать себя абсолютно свободным человеком. Свободнее, чем ты на кухне, в метро, с друзьями у ларька. Потому что ты вдруг можешь встать и сказать все, что ты думаешь, можешь уйти. Ты этого не делаешь, потому что есть как бы такое снисхождение. И в творчестве, в любом, когда ты находишь свой уют, свой мир, ты становишься свободным. А когда ты становишься свободным, ты можешь быть каким угодно острым, ты можешь ерничать. Ты свободен, как тот шут, который говорит королю всю правду. Самое главное, мне кажется, вообще в творчестве, чего не подозревают очень многие, – это уют и свобода. То есть возможность выстроить свой мир, в котором только твои законы. Только твои. Другое дело, здесь не должно быть шизофрении. Многие доходят до того, что им кажется, что этот мир понятен еще кому‑то. Должен быть стереовзгляд, чтобы ты понимал, а как другому человеку, который сейчас с тобой сидит, чтобы твои слова до него доходили, откликались в нем. Чтобы ты это чувствовал, понимал, и тебя радовало его тепло, а не свое.
А сегодня басни пишутся? Находится материал внутри себя, снаружи.
Это очень трудно. Очень тяжело.
А с чем связано? Как вам кажется?
Да с ленью, может. Это требует скрупулезного погружения. Это как кино снимать. Хорошее, авторское кино. Угол зрения выстраивать. Находить фабулу. Сегодня век такой... Вот мы сколько с вами разговаривали?
Минут 10‑12.
Вот. 10 минут. А в Telegram-канал какой‑нибудь за это время пришло 100 постов уже. И там могут быть даже стишки какие‑нибудь легкие. Никто не парится. Вон у нас деятель есть, который песенки поет такие так себе, он теперь дежурный поэт как бы. Он графоман, но его все читают, думают, это поэзия. А на самом деле. Ну как в стране, где был Высоцкий, вот его читать? Как‑то странно.
Но так можно, наверное, про многих сказать. Если уж брать такие планки – Высоцкий…
Конечно.
Кого поставишь рядом? Как‑то даже боязно.
Кого, Башлачева можно рядом поставить. Егора Летова.
Ну, понятно. Я имею в виду из живых. Имею в виду, и вам же можно такое, наверное, сказать?
Да пускай попробуют скажут мне!
Ну, хорошо. Скажите, басня возможна без морали?
Конечно. Возможна.
Насколько это законсервированный жанр? И чем отличается басня XIX века от современной? Какое развитие жанра происходит?
Слушайте, ну чем прекрасен Иван Андреевич Крылов? Он легко, по‑русски и очень хлестко перевел нам то, что сделал Эзоп, что сделал Лафонтен. Мы с вами знаем, наверное, порядка семи вариантов «Стрекозы и муравья». Про ворону и лисицу штучек пять‑шесть. Кто только не баловался. И Измайлов, и Новиков, и Тредиаковский, и Ломоносов. Пушкин – молодец, он вообще понимал, что не надо туда лезть, написал одну басню про сапожника и художника и успокоился. Но у них у всех это было как‑то тяжеловато. А Крылов это сделал прекрасно и легко. Легко! Ключевое слово – легко. И Крылов – это и есть басня XIX века. Мы, конечно, знаем Козьму Пруткова, но это, скорее, не басни, а некоторые сентенции. Чем отличается от нынешней? Мне сложно изнутри разговаривать об этом. Я понимаю, что был Сергей Владимирович Михалков, который замечательно писал басни. Были…
Он, кстати, написал предисловие к одной из ваших книг.
Да. Это для меня предмет радости большой.
Я догадываюсь.
Это – «старик отметил». Здорово это, правда. Эрдман Николай Робертович хорошие писал басни. Да я вот и говорил, Владимир Семенович Высоцкий, у которого прекрасное образование получено, от Синявского, кстати, в Школе‑студии МХАТ. Эти его блатные песенки – это ж тоже побасенки. Эти его герои, какая разница, это какой‑то крот там у него или какой‑то Васек. Это все равно не Высоцкий.
Да, рассказчик яркий есть. Тогда, может быть, прочтете одну басню, просто чтобы наши зрители…
Да ну. Пускай откроют, почитают…
Просто в вашем прочтении басня – это отдельный…
Я бы прочитал, если бы помнил новенькую. У меня есть такая басня «Религиозная лиса». Но, знаете, сейчас доставать это…
Тогда мы дадим домашнее задание зрителям, кого заинтересовал наш разговор о баснях. «Религиозная лиса» – меня лично название уже заинтересовало, я после интервью обязательно прочту.
Знаете, что можно найти, что круто по‑настоящему, это как Бортник Иван Сергеевич, ныне покойный, великий русский актер, читает мою басню «Крот в запое». Я когда‑то делал такую пластиночку и позвал туда своих знаменитых товарищей.
Да. Целая пледа.
Да. И что меня поразило, из всех этих прекрасных мастеров, включая музыканта Юрия Шевчука, прекрасную актрису Марину Голуб, Полину Кутепову, Никиту Высоцкого, Александра Клюквина, только два человека пришли с выученным текстом. А еще они достали листочки, там были пометки, акценты. Это были Валерий Золотухин и Иван Бортник. Коллеги по театру и друзья.
Старая школа.
Старая школа. Они пришли заранее…
Без опозданий…
Да. Они волновались. Они распевались (показывает голосом, как). Это не так что: «Давай быстренько. Ну, давай текст…» (изображает суету).
«У меня сейчас еще одна съемочка…»
И это видно. И это слышно. Вот Золотухин, например, читал басню «Мнительный жучок». Он и на концертах потом стал ее читать. (Выразительно читает) Однажды мнительный жучок… В общем, в этом была какая‑то хирургическая работа. Я, да не как автор, я как зритель рот открыл и с радостью внимал, слушал. Как чужую какую‑то басню.
А у вас вообще есть талант к пародии. Может быть, не все зрители знают, помнят, что в передаче «Куклы» вы озвучивали многих персонажей.
Да.
Я сейчас, готовясь к передаче, смотрел ваши интервью, вы, когда начинаете про кого‑то говорить, иногда показываете, а иногда даже не показываете, но все равно вдруг интонация проскальзывает.
Мне один, как сказать, я боюсь слова «поэт», потому что это отчасти посмертное звание. Один собрат по перу, мне кажется, из зависти, мне сказал: «Все‑таки основной твой талант – это твой голос. Голос, как ты его меняешь. А остальное – это так, средненько».
Я не согласен с ним.
Влад, вы даете много интервью. Есть нелюбимые вопросы? Которые уже набили оскомину, постоянно спрашивают или просто надоели?
Да нет, я немного даю интервью.
Ну, хорошо, некоторое количество давали? Есть нелюбимые вопросы.
Мне кажется, все не любят вопросы про планы, потому что ну что планы…
Про планы я все равно сегодня спрошу. Планы не ваши лично, а «Есенин‑Центра», например. Или театра поэтов.
Я не люблю вопросы про личную жизнь. Я считаю это закрытой темой.
Как я вас за это уважаю.
Помню, будучи студентом, я начал читать письма Пушкина к жене. Так это интересно! Но мне в конце концов стало стыдно.
Да, есть такое.
Потому что там, в общем, идет семейная жизнь, куда не надо нос совать. Там вопросы, связанные с бытом, с деньгами, какие‑то еще личные секреты мужа и жены. Ну что это...
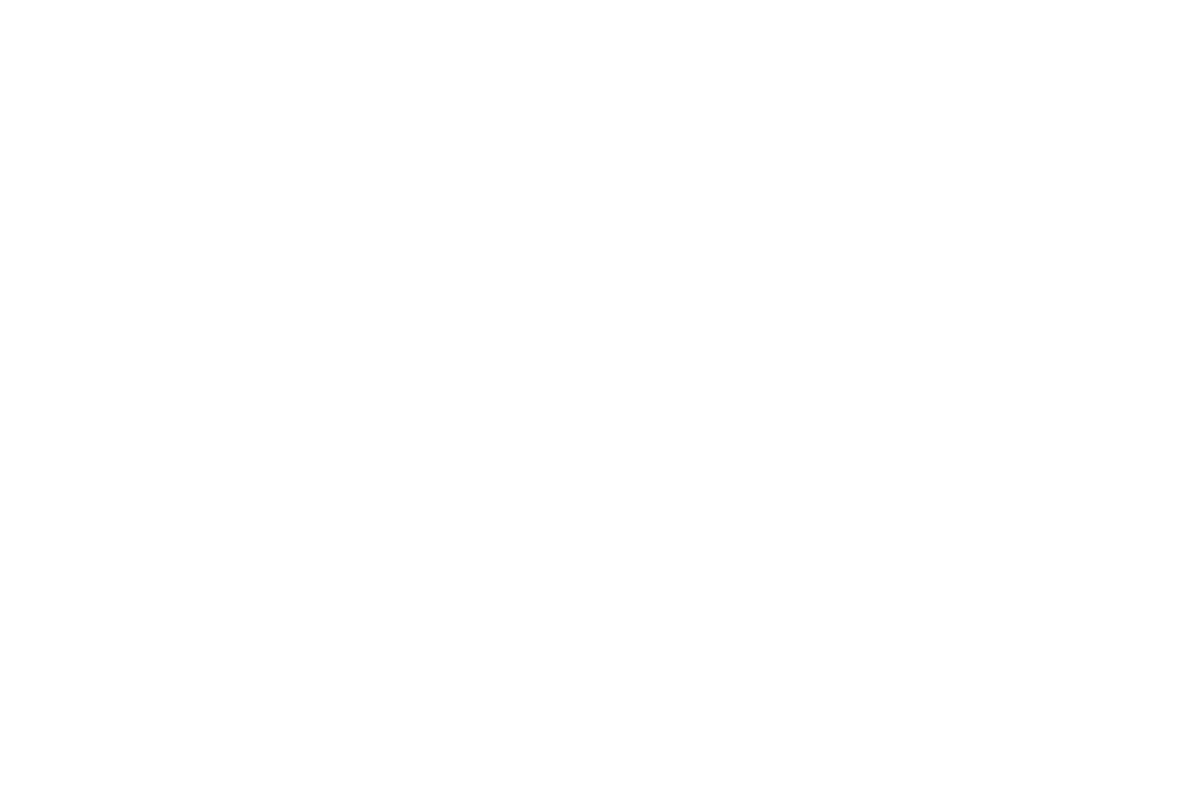
Влад, вас часто называют человек‑оркестр. Как вы все успеваете? Театр поэтов, «Филатов Фест», «Есенин‑Центр» - как минимум.
Надо просто дело делать, и все.
Сколько вы на сон тратите времени?
Я стараюсь набрать часов шесть. Не всегда это получается. Мне нравится прям утром начинать. Прям заводиться. Но я не люблю рассказывать про кухню. Успеваю, да.
Ну, хорошо, если не рассказывать, то совет нашим зрителям, как все успевать.
Знаете, однажды Юрия Петровича Любимова спросили, что главное в режиссере. И он долго думал и сказал: «Главное – все держать в голове». Это ответ, наверное, на ваш вопрос. Чтобы все успевать или хотя бы хоть что‑то успевать, надо абсолютно спокойно и точно в голове держать все задачи, и подзадачи, и подподзадачи, которые у тебя есть. Я восхищался всегда математиками, шахматистами. Мне кажется, что шахматы – это полезнейшая поэтическая и очень напряженная, эмоциональная, силовая и жесткая спортивная игра. Очень жесткая. Шахматы – это не какой‑то человек в очках, который на ладан дышит. Это очень мускулистая игра. И мне кажется, жизнь – это как шахматы. Это просчитывание определенных ходов, заманивание соперника. Да надо просто читать книжку «Искусство войны» китайскую.
Если уж заговорили о шахматах, вы за кого болели, за Каспарова или за Карпова, когда было великое противостояние?
За Карпова.
Хорошо. А списки любите составлять? Я помню, что про кухню вы не любите, но все‑таки.
Я делаю, да. С ночи, конечно, делаю это. Записываю. У меня есть тезисы, подтезисы. Засыпая, я прорабатываю какие‑то вещи. Как в школе приучали – чтобы выучить стишок, надо его на ночь прочесть.
Очень эффективный способ. А нет ощущения, что распыляетесь?
Мне нравится распыляться, потому что когда распыляешься, больше цветов вокруг получают любовь и пыльцу… Я, конечно, мог бы долбить в одну дырку, но тогда я был бы хорошим монтером. Меня когда‑то, лет десять назад, расстраивала история, что в литературных кругах меня считают актером, а в актерских – литератором. А сейчас я нахожу от этого кайф такой. Потому что я понимаю, что я, как Штирлиц.
Да, получается, свой среди чужих, чужой среди своих.
Да. И ты абсолютно неуязвим. Опять же речь идет о той свободе, о которой мы говорили. Нет клейма. Никто твою душеньку не подцепляет, как шашлык. Не хочется никому отдавать ее.
Но все‑таки одно за счет другого? Вы руководите тремя большими проектами. Там ведь есть и организационные моменты, помимо художественного руководства. И вы же это отнимаете, скажем высокопарно, у своего творчества. Не жалко? Не бывает: да пошло оно все…
Конечно. Вот руководить – это жалко. И это прям плохо. Потому что это парко‑хозяйственные вопросы. Я тут решал вопрос, что в подвале не было воды. Я решал его полгода. Конечно, я бы лучше стишков понаписал или там побасенки. Но нет другого выхода, потому что у меня команда. Это для меня родные люди. Я многих из этих ребят люблю. И кое‑кто для меня друг. Но все равно нужно умение держать расстояние. Панибратства нельзя допускать. С одной стороны. А с другой стороны, команда и есть семья. Мы непобедимы, если будем чувствовать, что спина защищена. У нас, худо‑бедно, все‑таки есть верность, в нашем коллективе. Я сейчас имею в виду Московский театр поэтов. Уж сколько мы получали тумаков, без всяких денег сколько мы сделали приключений и, надеюсь, столько еще сделаем.
Я как‑то шел, осень такая красивая, и вдруг на перекрестке, там у нас рядом с государственным музеем Есенина, который «Есенин‑Центр», на Достоевской какие‑то стоят грязные машины. И я думаю, вот что такое поэзия. Поэзия – это когда ты возьмешь и росчерком пера, ну, может быть, оно будет не за секунду, так, за годок или за два годка, вместо этих машин разобьешь здесь сквер Поэтов. Как в Париже. Вот этих машин не будет. Вот этого забора не будет. Этого тоже не будет забора. Вот этой тоже не будет ерунды. А будет здесь – дерево, здесь – памятник Мандельштаму. Вот это – стихи. Страшно интересно этим заниматься. И когда проходит год и к тебе большие дядьки стучатся: «Здравствуйте, приходите, пожалуйста, в префектуру. А вас ждет (показывает глазами наверх)». И ты входишь – да, ребят, присваивайте, присваивайте, говорите, что это вы придумали. Я ж знаю про тот осенний денечек правду.
Когда в космос уже было заронено зерно.
«Театральный роман» Булгакова, вы, собственно, играли в постановке в Театре на Таганке. «Театральный роман», который освещает два мира, которым вы принадлежите, – мир театра и мир литературы. При этом, как мне кажется, и это, в общем, все отмечают, театр там показан с любовью – это такие, скорее, милые чудаки. А мир литературы показан более зло и едко. Вот вы как человек того и другого мира, можете разделить взгляд Михаила Афанасьевича? Какие вообще люди мира литературы и люди мира театра? Чем они отличаются? Чем похожи? И там и там творческие же люди, но есть нюансы, мне кажется.
Это очень интересный разговор. В театре более эмоциональные люди. В театре все‑таки более женская природа.
Да.
Более женская энергия и какие‑то ветра такие. Театр вообще превращает мужчин в женщин, женщин в мужчин. Или надо уходить после 40 лет.
Как, собственно, вы и сделали.
Да. Трудно все равно представить в театре Василия Макаровича Шукшина там. Или Луспекаева, который вот не пьет. Правда советский театр – это отдельная история, которая законсервирована была и пронесла какие‑то традиции. И тот мир наполнен загадками, тайнами, и, елки‑палки, описывать это безумно интересно. Но это надо рассказывать, знаете, как в школе нам говорили, приведите пример, всегда приводите пример. Можно же чудесные примеры приводить, как одна актриса, знаменитая, другой ломает ребро, например. Или как в суп добавляется стекло.
Мне кажется, сейчас некоторым зрителям, которые с театром не знакомы изнутри, им кажется, что вы сейчас преувеличиваете.
Да нет. Я думаю, в мире литературы тоже есть эти стекла и ребра, только они еще более коварно, так сказать, применяются. Будьте уверены.
Мне кажется, театральные люди, они более в этом смысле открыты. Могут разругаться, но потом помириться. А литературные люди в этом смысле вообще мало что забывают.
Знаете, в свое время на Таганке, которая… Ну, не золотой век мы застали, но такой, подсеребренный век «Таганки». После «Таганки» в любом заведении я чувствовал себя, как в детском саду. Потому что мы все воспитаны были нашим шефом очень, ну очень жестко. И с огромной благодарностью я всегда вспоминаю этого сложного, невероятно интересного и гениального в общем человека – Любимова.
А сколько Юрию Петровичу было лет, когда вы пришли в театр?
79.
А было такое ощущение, что все‑таки, ну, уже старик?
Вот у меня не было. Было у тех людей, которые меня не отпускали из других заведений. Говорили: «Ну куда ты пойдешь. Слушай, ну ему же 79 лет». Я пришел и увидел…
А вы же из театра Моссовета туда ушли? Ни много ни мало.
Да, я не с улицы пришел. У меня был интересный опыт. Я был партнером, лучше сказать – я имел честь быть партнером Георгия Жженова на сцене. Бориса Иванова. Моей «мамой» была Нина Дробышева. Саша Домогаров пришел из театра Армии (Центральный академический театр Российской Армии – примеч. ред.), а я пришел из училища, и Саша меня немножко натаскивал в театральную жизнь. Говорил: «Не надо отпрашиваться у главного режиссера. Ты вот здесь так, а потом потихонечку…» (показывает юркающие движения телом). Он вот этим булгаковским приемчикам меня учил. Кстати, достаточно по‑дружески, мы до сих пор в очень теплых отношениях. Даже Юрий Петрович кому‑то говорил, ему нравилось говорить: «Я его украл из Моссовета».
Я просто хочу сказать про него. Мне кажется, тогда не было такого понятия, в 60‑70‑х годах, – продюсер, менеджер. А он – уже был. Великолепным собирателем, продюсером, гений коллективного разума, как сказал про него Александр Давидович Боровский. Его доктрина была не совсем театральная. Он приучал к жизни, к ситуации в нашей быстротекущей, меняющейся реальности. Особенно в 90-х годах, это было выпукло очень.
Вы вышли из училища в 95‑м году?
Да, я же после армии еще….
Важный момент для наших зрителей, что кино тогда практически не снималось. Попасть в кино было…
Мебельные магазины были на «Мосфильме».
Это же такое, потерянное поколение актеров считается. Кино нет, сериалов нет. Как тебе утвердиться?
Да. Но с другой стороны, нас театральное училище спасло. Вот представьте, мы последние солдаты Советской армии, я служил в 89-91‑ом, и потом мы просто дневали и ночевали <в училище>. То есть четыре года, когда ровесников где‑то отстреливали. Отстреливали – я сейчас имею в виду криминальные разборки, Чечня‑то только потом начиналась. Мы в это время в чешках, в пыли под стульями со своими педагогами и однокурсниками выстраивали этюды, у нас был Шекспир, Гоголь.
Ну да, 93‑й год – бомбили Белый дом, а вы сдавали какой‑нибудь этюд.
Мы, конечно, появились там с моим другом детства Сашкой Степочкиным, недалеко где‑то бродили, потому что нам надо было быть свидетелями этого всего. И позиция у нас была очень однозначная, но сейчас, я думаю, не будем про политику.
Хорошо, не будем. Мне вот что интересно. В армии вы познакомились с Денисом Золотухиным, сыном Валерия Золотухина…
Мы так отскакиваем все дальше, да? (смеется)
Да. Вы поймете сейчас, к чему я говорю. К тому, что Дениса воспитывал Леонид Филатов, второй муж Нины Шацкой. И, собственно, вы дома у Дениса знакомитесь с Леонидом Филатовым. В его свитере идете встречаться со своими родственниками. И потом возникает «Филатов Фест», работа на Таганке.
Ну, это потом уже.
Да, но я вот к чему. Вы верите в судьбу?
В этом смысле я верю в предчувствие, в знаки, не в судьбу. Есть какие‑то точки, понимаете. Встретишь на улице какого‑то человека или явление, будешь ему свидетелем, или что‑то вдруг происходит, и ты понимаешь, ты не зря вдруг в этом месте оказался. Не зря ты купил билет, не зря с человеком встретился, который тебя сюда привел, вот (подчеркивает) для чего это было нужно. Но при этом ты сам мотор этой своей истории, потому что понимаешь, ага, если это нужно было для этого, пожалуйста, не делай вот этого, а сделай так, чтобы добиться каких‑то следующих результатов. Тут надо быть самому себе режиссером.
А это вообще было мечтой – работать на Таганке?
Детской. А потом она ушла.
А Денис сейчас же стал священником. Вы продолжаете дружить?
Он не сейчас стал, он давно стал. Мы продолжаем общаться, но очень редко. Денис – человек достаточно закрытый, но он всегда рад моему звонку или появлению. Или я его появлению.
А он в Москве служит? В московском храме?
Он служит на кладбище города Видного. А так он живет в Москве, окруженный своими многочисленными детьми, прекрасной женой Аллой. Ну и, в общем, Денис всегда был для меня очень светлым человеком. И я благодарен ему за то, что он познакомил меня с Леонидом Алексеевичем Филатовым. Это замечательные воспоминания. Я сейчас рассказываю, никто не понимает, почему у нас нет ни одной фотографии. Ребят, во‑первых, не было никаких мобильных телефонов, во‑вторых, мы не носили с собой фотоаппараты. Даже в голову не могло прийти – я иду к Филатову читать свои стихи, «а давайте сделаем селфи» или «а давайте сфотографируемся». Это все даже в голову не приходило. Если где‑то рядом оказывался человек‑фотограф, да, появлялись эти редкие снимки. Конечно, жалею, что нет ни одной фотографии с тем, еще здоровым, я имею в виду в физическом смысле здоровым Леонидом Алексеевичем Филатовым. В расцвете сил. Который фонтанировал идеями. Был с огромным юмором.
А идея названия фестиваля? Сначала появилась идея фестиваля, потом название?
Да. Те ребята, которые вокруг меня сгруппировались, говорили: «Давай делать фестиваль». Я говорил: «Ну да. Хорошая это мысль. Надо». И в какой‑то момент я шел по улице и подумал, что надо назвать фестиваль именем Леонида Алексеевича. И я позвонил Нине Сергеевне, пошел к ней. И она говорит: «Слушай, давай. Я тебе это все разрешаю. Но у меня к тебе просьба огромная – сделайте доску на доме, где мы жили. Это так трудно. Уже десять лет прошло, но мне так хочется, чтобы помнили». И мы ввязались в эту тяжеленную историю. Я даже не знал, что это так трудно. Я думал, пришел, скульптору заказал, повесил, цветы положил и ушел. А на самом деле там такие…
Много формальностей…
Да. Но очень много людей нас поддержало, и они открылись с интересной стороны.
«Филатов Фест» – это все‑таки фестиваль молодой поэзии и драматургии, до 35 лет. Нет ощущения у вас, что молодые ребята, которые приходят, не все знают, кто такой Филатов? Или это не так?
Да, конечно, не все. Сейчас ребята поступают в театральный и не знают, кто такой Смоктуновский и Евстигнеев. Ну, время такое. Рассказываем. Показываем. Не это главное в «Филатов Фесте». Главное там – жесткая фильтрация, свобода и честность в отборе. Мы вот спорим до сих пор, рвем себе глотки по поводу того, кого нам в большой список <отбирать>… Непросто мы отбираем. Даже потом есть слепые отборы у нас. Вторые, третьи стихи перемешиваем, не знаем, кто автор, и т. д.
«Филатов Фест» уже шестой год, получается, существует, да?
Шестой.
Там какой момент получается – сначала вы отбираете поэтов, а потом уже они читают вживую, и получается, что манера чтения очень важна.
Совершенно верно.
То есть можно представить себе историю, что прекрасные стихи, но автор плохо их читает. И не попадает в полуфинал, в финал, не побеждает?
Всеволод Емелин, замечательный, дорогой мне поэт, говорит: «Сделай обязательно, как в фигурном катании, оценку за артистизм». И мы в этом году вводим определенный балл. Естественно, он будет не решающим, но все‑таки будет добавлять определенную помощь. Бывает, да. Но часто видишь, что вдруг возникает что‑то грандиозное, проблеск невероятный, а человек не доносит это. И мы останавливаемся. Чтобы подробнее <рассмотреть>. Понятно, что устают люди, комиссии, жюри и т. д., и тот, кто поярче, тот, кто в конце вдруг, так сказать…
То есть как? Человек читает, сидит жюри, зрители и вдруг вы говорите: «Стоп»?
Нет, останавливаемся уже потом, в обсуждении: «Ребята, давайте еще раз вернемся…»
Стихи‑то хорошие… прочел не очень…
Да. У меня как у худрука есть право добавить какого‑то человека. Я всегда им пользуюсь. Я вообще не умею судить‑рядить. Мне трудно это. Я не понимаю, как ставить баллы от одного до десяти. Что это?
А у вас там десятибалльная система?
Разная. Мы немножко нивелируем.
Хорошо. Могут прекрасные стихи затеряться в невнятном прочтении. И есть обратная история – может очень яркое прочтение снивелировать дефекты стиха. На бумаге, там все бывает виднее.
Конечно.
Как с этим быть? Или это просто часть игры?
Конечно, часть игры. Всегда говорю: «Ребята, это игра. Я за проигравших. И вообще, если вы, проиграв, встанете и пойдете дальше, вы победите тех, кто сегодня выиграл». Надо к этому так относиться, конечно.
А, с другой стороны, поэзия, она ж связана с чтением вслух. Все великие поэты, ну, которых мы можем отследить, у всех была яркая манера. Как читал Есенин, Маяковский…
Ну, наверное, не у всех. Ваша правда в том, что магистральные русские писатели обладали хорошей способностью к ораторскому искусству. Великолепно читал Достоевский. На открытии памятника Пушкину он поразил всех. Как пророк он читал, такую речь сказал! Пушкин ярко читал. Маяковский – актер. Есенин – актерище. Как он читал «Пугачева». Говорят, что это было невероятно. Они там спорили с Мейерхольдом, потому что Есенин очень хотел, чтобы Мейерхольд поставил «Пугачева». А Мейерхольд говорил: «У тебя нет действия. У тебя там один герой и не меняется – Пугачев, вокруг него все меняется. Ты чего. Тут надо делать интермедии». Есенин говорил: «Ты не понимаешь, мое действие – это слова». – «Да не слова, – говорил Мейерхольд, – люди устанут через 15 минут этот крик слушать». – «Это не крик. Это может быть шепот и молитва». – «Да нет, надо интермедии писать». – «Я не буду». Не буду! Поэтому хитрый Любимов через много лет попросил Эрдмана, и тот написал юмористические такие вставки, интермедии, когда выходила вдруг царица в исполнении великолепной актрисы Инны Ульяновой. И были такие пародии на ее дневники. А параллельно – заседание Политбюро ЦК КПСС. А потом уже начиналось само это месиво, эта фактура есенинского имажинизма. Но я к чему это говорю, говорят, когда он сам читал, это было невероятно.
Но, слава богу, даже пластинки сохранились. Можно…
Ну, там чуть‑чуть.
Остальное домыслим.
Когда вы в последний раз говорили с Юрием Петров чем Любимовым? Помните этот разговор?
Какой хороший, неожиданный, ненужный сейчас для моего сердца…
Ну простите. Работа такая.
Да нет. Это все жестко и печально. Все на Таганке произошло не очень хорошо. Это было в Праге. Был скандал. А я там оказался все‑таки водоносом. И с меня начиналась репетиция. То есть после скандала, который вообще в кровь был, все равно мы должны были выйти на сцену, там пресса была иностранная. А Юрий Петрович сидел в зале. И первым выходил ваш покорный слуга и простоял потом еще минут 15‑20‑30, слушал про все, ну просто на меня это все… В меня стреляли из ППШ, из трехлинейки, из Калашникова. И я даже по‑актерски чего‑то огрызался. Как бы не на него, это как актер с режиссером было, не личное. И, пожалуй, все. Я пытался ему потом звонить. А потом один человек с ним разговаривал и про меня ему сказал, и он сказал: «Ну, его – да. И его возьмите». То есть он в хорошем смысле. Это я знаю точно. У меня есть человек, который с ним беседовал, и это может говорить о том, что не было у нас вот такого непримиримого разлада.
Хотя, знаете, что случилось потом? К пятидесятилетию театра мне позвонил Феликс Николаевич Антипов, потом собрались все старики театра и сказали: «Только ты…» … Вот ей богу, если отпустишь что‑то далеко, оно тебя и достанет. Я вот отпустил, поехал за грибами вообще, и вдруг мне в лесу этот звонок: «Приезжай. Мы тут все тебя ждем». Осенний звонок про весну. Старики и весь театр, говорят: «Слушай, у нас будет 50‑летие, и мы на тебя уповаем. Больше никто не сможет собрать, склеить, что‑то придумать. Вот давай. Все что угодно. Мы сделаем». Это говорили и администрация, и творческие работники, и вахтеры, и водопроводчики, все! А в это время Юрий Петрович, уже старенький, ставил спектакль «Бесы». Типа про вот этот театр, про нас. В театре Вахтангова. И я подумал, что надо с любовью все делать. И ждать его, а вдруг он придет. Я не буду ни про какие вот эти конфликты…
И возник спектакль «Таганский фронт».
Да. Там была интересная работа с Юрой Шевчуком. Как с композитором и участником этого действия. И всей группой «ДДТ». Я могу сказать, что, помимо тех слез, которые мы видели в зале, и того, что вообще произошло – когда открывается вагон метро, внизу, и вас спрашивают: «Простите, у вас нету лишнего билетика?», еще не давая человеку выйти из вагона! Мне потом молодые актеры говорили: «Спасибо, мы поняли, что такое была когда‑то „Таганка"». Я говорю: «Ну, наверное, мы не достали еще до этого, понятное дело. У нас конной милиции нет здесь. Но кое‑что…» Когда лауреат Государственной премии сказал мне, что он висел на люстре… В буквальном смысле: висел на люстре (показывает, как висел), там у нас есть балкон, а он еще подвис. Со счастливыми глазами человек, который ракету какую‑то запустил в космос, говорил: «Вы знаете, вы мне вернули мою молодость. Я висел на люстре два часа». Ну я сказал: «Дак, спасибо».
Надо просто дело делать, и все.
Сколько вы на сон тратите времени?
Я стараюсь набрать часов шесть. Не всегда это получается. Мне нравится прям утром начинать. Прям заводиться. Но я не люблю рассказывать про кухню. Успеваю, да.
Ну, хорошо, если не рассказывать, то совет нашим зрителям, как все успевать.
Знаете, однажды Юрия Петровича Любимова спросили, что главное в режиссере. И он долго думал и сказал: «Главное – все держать в голове». Это ответ, наверное, на ваш вопрос. Чтобы все успевать или хотя бы хоть что‑то успевать, надо абсолютно спокойно и точно в голове держать все задачи, и подзадачи, и подподзадачи, которые у тебя есть. Я восхищался всегда математиками, шахматистами. Мне кажется, что шахматы – это полезнейшая поэтическая и очень напряженная, эмоциональная, силовая и жесткая спортивная игра. Очень жесткая. Шахматы – это не какой‑то человек в очках, который на ладан дышит. Это очень мускулистая игра. И мне кажется, жизнь – это как шахматы. Это просчитывание определенных ходов, заманивание соперника. Да надо просто читать книжку «Искусство войны» китайскую.
Если уж заговорили о шахматах, вы за кого болели, за Каспарова или за Карпова, когда было великое противостояние?
За Карпова.
Хорошо. А списки любите составлять? Я помню, что про кухню вы не любите, но все‑таки.
Я делаю, да. С ночи, конечно, делаю это. Записываю. У меня есть тезисы, подтезисы. Засыпая, я прорабатываю какие‑то вещи. Как в школе приучали – чтобы выучить стишок, надо его на ночь прочесть.
Очень эффективный способ. А нет ощущения, что распыляетесь?
Мне нравится распыляться, потому что когда распыляешься, больше цветов вокруг получают любовь и пыльцу… Я, конечно, мог бы долбить в одну дырку, но тогда я был бы хорошим монтером. Меня когда‑то, лет десять назад, расстраивала история, что в литературных кругах меня считают актером, а в актерских – литератором. А сейчас я нахожу от этого кайф такой. Потому что я понимаю, что я, как Штирлиц.
Да, получается, свой среди чужих, чужой среди своих.
Да. И ты абсолютно неуязвим. Опять же речь идет о той свободе, о которой мы говорили. Нет клейма. Никто твою душеньку не подцепляет, как шашлык. Не хочется никому отдавать ее.
Но все‑таки одно за счет другого? Вы руководите тремя большими проектами. Там ведь есть и организационные моменты, помимо художественного руководства. И вы же это отнимаете, скажем высокопарно, у своего творчества. Не жалко? Не бывает: да пошло оно все…
Конечно. Вот руководить – это жалко. И это прям плохо. Потому что это парко‑хозяйственные вопросы. Я тут решал вопрос, что в подвале не было воды. Я решал его полгода. Конечно, я бы лучше стишков понаписал или там побасенки. Но нет другого выхода, потому что у меня команда. Это для меня родные люди. Я многих из этих ребят люблю. И кое‑кто для меня друг. Но все равно нужно умение держать расстояние. Панибратства нельзя допускать. С одной стороны. А с другой стороны, команда и есть семья. Мы непобедимы, если будем чувствовать, что спина защищена. У нас, худо‑бедно, все‑таки есть верность, в нашем коллективе. Я сейчас имею в виду Московский театр поэтов. Уж сколько мы получали тумаков, без всяких денег сколько мы сделали приключений и, надеюсь, столько еще сделаем.
Я как‑то шел, осень такая красивая, и вдруг на перекрестке, там у нас рядом с государственным музеем Есенина, который «Есенин‑Центр», на Достоевской какие‑то стоят грязные машины. И я думаю, вот что такое поэзия. Поэзия – это когда ты возьмешь и росчерком пера, ну, может быть, оно будет не за секунду, так, за годок или за два годка, вместо этих машин разобьешь здесь сквер Поэтов. Как в Париже. Вот этих машин не будет. Вот этого забора не будет. Этого тоже не будет забора. Вот этой тоже не будет ерунды. А будет здесь – дерево, здесь – памятник Мандельштаму. Вот это – стихи. Страшно интересно этим заниматься. И когда проходит год и к тебе большие дядьки стучатся: «Здравствуйте, приходите, пожалуйста, в префектуру. А вас ждет (показывает глазами наверх)». И ты входишь – да, ребят, присваивайте, присваивайте, говорите, что это вы придумали. Я ж знаю про тот осенний денечек правду.
Когда в космос уже было заронено зерно.
«Театральный роман» Булгакова, вы, собственно, играли в постановке в Театре на Таганке. «Театральный роман», который освещает два мира, которым вы принадлежите, – мир театра и мир литературы. При этом, как мне кажется, и это, в общем, все отмечают, театр там показан с любовью – это такие, скорее, милые чудаки. А мир литературы показан более зло и едко. Вот вы как человек того и другого мира, можете разделить взгляд Михаила Афанасьевича? Какие вообще люди мира литературы и люди мира театра? Чем они отличаются? Чем похожи? И там и там творческие же люди, но есть нюансы, мне кажется.
Это очень интересный разговор. В театре более эмоциональные люди. В театре все‑таки более женская природа.
Да.
Более женская энергия и какие‑то ветра такие. Театр вообще превращает мужчин в женщин, женщин в мужчин. Или надо уходить после 40 лет.
Как, собственно, вы и сделали.
Да. Трудно все равно представить в театре Василия Макаровича Шукшина там. Или Луспекаева, который вот не пьет. Правда советский театр – это отдельная история, которая законсервирована была и пронесла какие‑то традиции. И тот мир наполнен загадками, тайнами, и, елки‑палки, описывать это безумно интересно. Но это надо рассказывать, знаете, как в школе нам говорили, приведите пример, всегда приводите пример. Можно же чудесные примеры приводить, как одна актриса, знаменитая, другой ломает ребро, например. Или как в суп добавляется стекло.
Мне кажется, сейчас некоторым зрителям, которые с театром не знакомы изнутри, им кажется, что вы сейчас преувеличиваете.
Да нет. Я думаю, в мире литературы тоже есть эти стекла и ребра, только они еще более коварно, так сказать, применяются. Будьте уверены.
Мне кажется, театральные люди, они более в этом смысле открыты. Могут разругаться, но потом помириться. А литературные люди в этом смысле вообще мало что забывают.
Знаете, в свое время на Таганке, которая… Ну, не золотой век мы застали, но такой, подсеребренный век «Таганки». После «Таганки» в любом заведении я чувствовал себя, как в детском саду. Потому что мы все воспитаны были нашим шефом очень, ну очень жестко. И с огромной благодарностью я всегда вспоминаю этого сложного, невероятно интересного и гениального в общем человека – Любимова.
А сколько Юрию Петровичу было лет, когда вы пришли в театр?
79.
А было такое ощущение, что все‑таки, ну, уже старик?
Вот у меня не было. Было у тех людей, которые меня не отпускали из других заведений. Говорили: «Ну куда ты пойдешь. Слушай, ну ему же 79 лет». Я пришел и увидел…
А вы же из театра Моссовета туда ушли? Ни много ни мало.
Да, я не с улицы пришел. У меня был интересный опыт. Я был партнером, лучше сказать – я имел честь быть партнером Георгия Жженова на сцене. Бориса Иванова. Моей «мамой» была Нина Дробышева. Саша Домогаров пришел из театра Армии (Центральный академический театр Российской Армии – примеч. ред.), а я пришел из училища, и Саша меня немножко натаскивал в театральную жизнь. Говорил: «Не надо отпрашиваться у главного режиссера. Ты вот здесь так, а потом потихонечку…» (показывает юркающие движения телом). Он вот этим булгаковским приемчикам меня учил. Кстати, достаточно по‑дружески, мы до сих пор в очень теплых отношениях. Даже Юрий Петрович кому‑то говорил, ему нравилось говорить: «Я его украл из Моссовета».
Я просто хочу сказать про него. Мне кажется, тогда не было такого понятия, в 60‑70‑х годах, – продюсер, менеджер. А он – уже был. Великолепным собирателем, продюсером, гений коллективного разума, как сказал про него Александр Давидович Боровский. Его доктрина была не совсем театральная. Он приучал к жизни, к ситуации в нашей быстротекущей, меняющейся реальности. Особенно в 90-х годах, это было выпукло очень.
Вы вышли из училища в 95‑м году?
Да, я же после армии еще….
Важный момент для наших зрителей, что кино тогда практически не снималось. Попасть в кино было…
Мебельные магазины были на «Мосфильме».
Это же такое, потерянное поколение актеров считается. Кино нет, сериалов нет. Как тебе утвердиться?
Да. Но с другой стороны, нас театральное училище спасло. Вот представьте, мы последние солдаты Советской армии, я служил в 89-91‑ом, и потом мы просто дневали и ночевали <в училище>. То есть четыре года, когда ровесников где‑то отстреливали. Отстреливали – я сейчас имею в виду криминальные разборки, Чечня‑то только потом начиналась. Мы в это время в чешках, в пыли под стульями со своими педагогами и однокурсниками выстраивали этюды, у нас был Шекспир, Гоголь.
Ну да, 93‑й год – бомбили Белый дом, а вы сдавали какой‑нибудь этюд.
Мы, конечно, появились там с моим другом детства Сашкой Степочкиным, недалеко где‑то бродили, потому что нам надо было быть свидетелями этого всего. И позиция у нас была очень однозначная, но сейчас, я думаю, не будем про политику.
Хорошо, не будем. Мне вот что интересно. В армии вы познакомились с Денисом Золотухиным, сыном Валерия Золотухина…
Мы так отскакиваем все дальше, да? (смеется)
Да. Вы поймете сейчас, к чему я говорю. К тому, что Дениса воспитывал Леонид Филатов, второй муж Нины Шацкой. И, собственно, вы дома у Дениса знакомитесь с Леонидом Филатовым. В его свитере идете встречаться со своими родственниками. И потом возникает «Филатов Фест», работа на Таганке.
Ну, это потом уже.
Да, но я вот к чему. Вы верите в судьбу?
В этом смысле я верю в предчувствие, в знаки, не в судьбу. Есть какие‑то точки, понимаете. Встретишь на улице какого‑то человека или явление, будешь ему свидетелем, или что‑то вдруг происходит, и ты понимаешь, ты не зря вдруг в этом месте оказался. Не зря ты купил билет, не зря с человеком встретился, который тебя сюда привел, вот (подчеркивает) для чего это было нужно. Но при этом ты сам мотор этой своей истории, потому что понимаешь, ага, если это нужно было для этого, пожалуйста, не делай вот этого, а сделай так, чтобы добиться каких‑то следующих результатов. Тут надо быть самому себе режиссером.
А это вообще было мечтой – работать на Таганке?
Детской. А потом она ушла.
А Денис сейчас же стал священником. Вы продолжаете дружить?
Он не сейчас стал, он давно стал. Мы продолжаем общаться, но очень редко. Денис – человек достаточно закрытый, но он всегда рад моему звонку или появлению. Или я его появлению.
А он в Москве служит? В московском храме?
Он служит на кладбище города Видного. А так он живет в Москве, окруженный своими многочисленными детьми, прекрасной женой Аллой. Ну и, в общем, Денис всегда был для меня очень светлым человеком. И я благодарен ему за то, что он познакомил меня с Леонидом Алексеевичем Филатовым. Это замечательные воспоминания. Я сейчас рассказываю, никто не понимает, почему у нас нет ни одной фотографии. Ребят, во‑первых, не было никаких мобильных телефонов, во‑вторых, мы не носили с собой фотоаппараты. Даже в голову не могло прийти – я иду к Филатову читать свои стихи, «а давайте сделаем селфи» или «а давайте сфотографируемся». Это все даже в голову не приходило. Если где‑то рядом оказывался человек‑фотограф, да, появлялись эти редкие снимки. Конечно, жалею, что нет ни одной фотографии с тем, еще здоровым, я имею в виду в физическом смысле здоровым Леонидом Алексеевичем Филатовым. В расцвете сил. Который фонтанировал идеями. Был с огромным юмором.
А идея названия фестиваля? Сначала появилась идея фестиваля, потом название?
Да. Те ребята, которые вокруг меня сгруппировались, говорили: «Давай делать фестиваль». Я говорил: «Ну да. Хорошая это мысль. Надо». И в какой‑то момент я шел по улице и подумал, что надо назвать фестиваль именем Леонида Алексеевича. И я позвонил Нине Сергеевне, пошел к ней. И она говорит: «Слушай, давай. Я тебе это все разрешаю. Но у меня к тебе просьба огромная – сделайте доску на доме, где мы жили. Это так трудно. Уже десять лет прошло, но мне так хочется, чтобы помнили». И мы ввязались в эту тяжеленную историю. Я даже не знал, что это так трудно. Я думал, пришел, скульптору заказал, повесил, цветы положил и ушел. А на самом деле там такие…
Много формальностей…
Да. Но очень много людей нас поддержало, и они открылись с интересной стороны.
«Филатов Фест» – это все‑таки фестиваль молодой поэзии и драматургии, до 35 лет. Нет ощущения у вас, что молодые ребята, которые приходят, не все знают, кто такой Филатов? Или это не так?
Да, конечно, не все. Сейчас ребята поступают в театральный и не знают, кто такой Смоктуновский и Евстигнеев. Ну, время такое. Рассказываем. Показываем. Не это главное в «Филатов Фесте». Главное там – жесткая фильтрация, свобода и честность в отборе. Мы вот спорим до сих пор, рвем себе глотки по поводу того, кого нам в большой список <отбирать>… Непросто мы отбираем. Даже потом есть слепые отборы у нас. Вторые, третьи стихи перемешиваем, не знаем, кто автор, и т. д.
«Филатов Фест» уже шестой год, получается, существует, да?
Шестой.
Там какой момент получается – сначала вы отбираете поэтов, а потом уже они читают вживую, и получается, что манера чтения очень важна.
Совершенно верно.
То есть можно представить себе историю, что прекрасные стихи, но автор плохо их читает. И не попадает в полуфинал, в финал, не побеждает?
Всеволод Емелин, замечательный, дорогой мне поэт, говорит: «Сделай обязательно, как в фигурном катании, оценку за артистизм». И мы в этом году вводим определенный балл. Естественно, он будет не решающим, но все‑таки будет добавлять определенную помощь. Бывает, да. Но часто видишь, что вдруг возникает что‑то грандиозное, проблеск невероятный, а человек не доносит это. И мы останавливаемся. Чтобы подробнее <рассмотреть>. Понятно, что устают люди, комиссии, жюри и т. д., и тот, кто поярче, тот, кто в конце вдруг, так сказать…
То есть как? Человек читает, сидит жюри, зрители и вдруг вы говорите: «Стоп»?
Нет, останавливаемся уже потом, в обсуждении: «Ребята, давайте еще раз вернемся…»
Стихи‑то хорошие… прочел не очень…
Да. У меня как у худрука есть право добавить какого‑то человека. Я всегда им пользуюсь. Я вообще не умею судить‑рядить. Мне трудно это. Я не понимаю, как ставить баллы от одного до десяти. Что это?
А у вас там десятибалльная система?
Разная. Мы немножко нивелируем.
Хорошо. Могут прекрасные стихи затеряться в невнятном прочтении. И есть обратная история – может очень яркое прочтение снивелировать дефекты стиха. На бумаге, там все бывает виднее.
Конечно.
Как с этим быть? Или это просто часть игры?
Конечно, часть игры. Всегда говорю: «Ребята, это игра. Я за проигравших. И вообще, если вы, проиграв, встанете и пойдете дальше, вы победите тех, кто сегодня выиграл». Надо к этому так относиться, конечно.
А, с другой стороны, поэзия, она ж связана с чтением вслух. Все великие поэты, ну, которых мы можем отследить, у всех была яркая манера. Как читал Есенин, Маяковский…
Ну, наверное, не у всех. Ваша правда в том, что магистральные русские писатели обладали хорошей способностью к ораторскому искусству. Великолепно читал Достоевский. На открытии памятника Пушкину он поразил всех. Как пророк он читал, такую речь сказал! Пушкин ярко читал. Маяковский – актер. Есенин – актерище. Как он читал «Пугачева». Говорят, что это было невероятно. Они там спорили с Мейерхольдом, потому что Есенин очень хотел, чтобы Мейерхольд поставил «Пугачева». А Мейерхольд говорил: «У тебя нет действия. У тебя там один герой и не меняется – Пугачев, вокруг него все меняется. Ты чего. Тут надо делать интермедии». Есенин говорил: «Ты не понимаешь, мое действие – это слова». – «Да не слова, – говорил Мейерхольд, – люди устанут через 15 минут этот крик слушать». – «Это не крик. Это может быть шепот и молитва». – «Да нет, надо интермедии писать». – «Я не буду». Не буду! Поэтому хитрый Любимов через много лет попросил Эрдмана, и тот написал юмористические такие вставки, интермедии, когда выходила вдруг царица в исполнении великолепной актрисы Инны Ульяновой. И были такие пародии на ее дневники. А параллельно – заседание Политбюро ЦК КПСС. А потом уже начиналось само это месиво, эта фактура есенинского имажинизма. Но я к чему это говорю, говорят, когда он сам читал, это было невероятно.
Но, слава богу, даже пластинки сохранились. Можно…
Ну, там чуть‑чуть.
Остальное домыслим.
Когда вы в последний раз говорили с Юрием Петров чем Любимовым? Помните этот разговор?
Какой хороший, неожиданный, ненужный сейчас для моего сердца…
Ну простите. Работа такая.
Да нет. Это все жестко и печально. Все на Таганке произошло не очень хорошо. Это было в Праге. Был скандал. А я там оказался все‑таки водоносом. И с меня начиналась репетиция. То есть после скандала, который вообще в кровь был, все равно мы должны были выйти на сцену, там пресса была иностранная. А Юрий Петрович сидел в зале. И первым выходил ваш покорный слуга и простоял потом еще минут 15‑20‑30, слушал про все, ну просто на меня это все… В меня стреляли из ППШ, из трехлинейки, из Калашникова. И я даже по‑актерски чего‑то огрызался. Как бы не на него, это как актер с режиссером было, не личное. И, пожалуй, все. Я пытался ему потом звонить. А потом один человек с ним разговаривал и про меня ему сказал, и он сказал: «Ну, его – да. И его возьмите». То есть он в хорошем смысле. Это я знаю точно. У меня есть человек, который с ним беседовал, и это может говорить о том, что не было у нас вот такого непримиримого разлада.
Хотя, знаете, что случилось потом? К пятидесятилетию театра мне позвонил Феликс Николаевич Антипов, потом собрались все старики театра и сказали: «Только ты…» … Вот ей богу, если отпустишь что‑то далеко, оно тебя и достанет. Я вот отпустил, поехал за грибами вообще, и вдруг мне в лесу этот звонок: «Приезжай. Мы тут все тебя ждем». Осенний звонок про весну. Старики и весь театр, говорят: «Слушай, у нас будет 50‑летие, и мы на тебя уповаем. Больше никто не сможет собрать, склеить, что‑то придумать. Вот давай. Все что угодно. Мы сделаем». Это говорили и администрация, и творческие работники, и вахтеры, и водопроводчики, все! А в это время Юрий Петрович, уже старенький, ставил спектакль «Бесы». Типа про вот этот театр, про нас. В театре Вахтангова. И я подумал, что надо с любовью все делать. И ждать его, а вдруг он придет. Я не буду ни про какие вот эти конфликты…
И возник спектакль «Таганский фронт».
Да. Там была интересная работа с Юрой Шевчуком. Как с композитором и участником этого действия. И всей группой «ДДТ». Я могу сказать, что, помимо тех слез, которые мы видели в зале, и того, что вообще произошло – когда открывается вагон метро, внизу, и вас спрашивают: «Простите, у вас нету лишнего билетика?», еще не давая человеку выйти из вагона! Мне потом молодые актеры говорили: «Спасибо, мы поняли, что такое была когда‑то „Таганка"». Я говорю: «Ну, наверное, мы не достали еще до этого, понятное дело. У нас конной милиции нет здесь. Но кое‑что…» Когда лауреат Государственной премии сказал мне, что он висел на люстре… В буквальном смысле: висел на люстре (показывает, как висел), там у нас есть балкон, а он еще подвис. Со счастливыми глазами человек, который ракету какую‑то запустил в космос, говорил: «Вы знаете, вы мне вернули мою молодость. Я висел на люстре два часа». Ну я сказал: «Дак, спасибо».
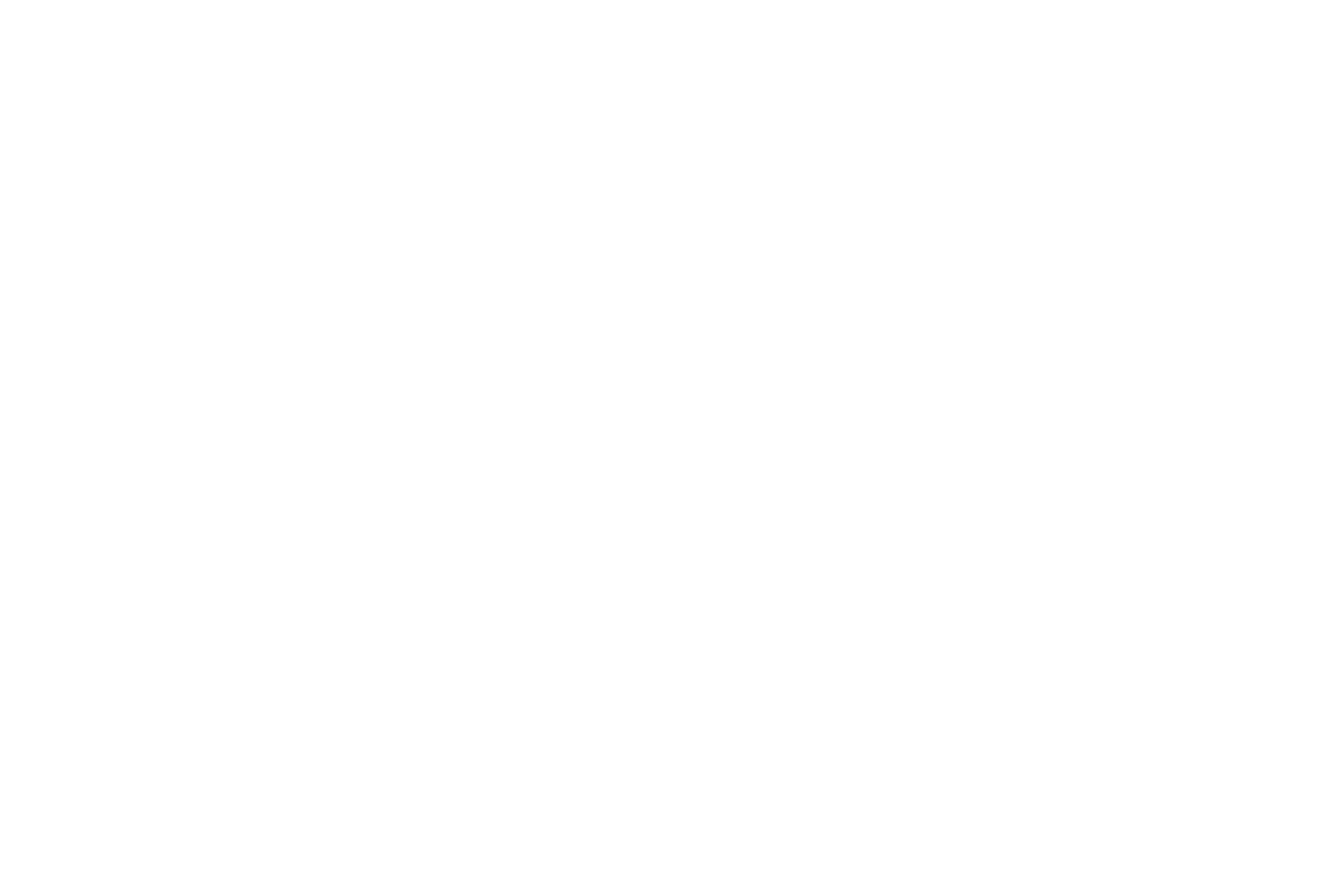
Есть у вас еще одна параллель интересная с «Таганкой» – Владимир Высоцкий. Вы родились с ним в один день, 25 января, понятно, что в разные годы. У вас в стихах есть к нему прямые отсылы – «протопи ты мне баньку по‑синему». Вы себя как‑то соотносите, сравниваете? Что для вас Высоцкий?
Просто я очень близко подошел к нему, я имею в виду, в профессиональных каких‑то вещах. Не только столик, который рядом стоял, но и Юрий Петрович, какие‑то его близкие люди ведь стали и для меня по‑настоящему близкими. Я имею в виду, например, Ивана Бортника. Я всегда считал Высоцкого загадочным поэтом. Это загадочное, очень большое явление. Я не люблю читать Высоцкого с листа, я очень не люблю, когда его поют. Я увиливал, вот поверьте мне, 20 лет увиливал петь его песни в спектакле «Владимир Высоцкий». Меня просил шеф, я куда‑то отвлекался, уходил… Где все пели, я пел. А вот чтоб один взять и спеть… Не то что я стеснялся или считал, не имею права. Я просто считал это невозможным с точки зрения профессионально‑духовной, что ли. Я понимал, что я так не попаду. Надо попасть. Вот почитать его интересно, я бы мог. Поэтому я там занимался пародиями какими‑то, как только не изгалялся, только чтобы мне не предложили петь. Потому что вышел ты с гитарой или с баяном и начал петь песни Высоцкого... Я до сих пор жутко стесняюсь и очень не люблю эти все конкурсы, меня подташнивает от них. Мы понимаем, какое это явление было. Необыкновенное совершенно. Сравнивать не сравниваю. Любимый поэт у меня другой.
Не скажете, кто?
Пушкин (смеются). Александр Сергеевич.
Вы, кстати, хорошо сказали, что Высоцкий – явление, потому что сказать – актер, сказать – поэт... Он явление. Он все вместе.
Он загадочный поэт. Все равно с его голосом невероятным, с его скошенным лбом, не вмещающимся в обычные рамки энергетическим посылом…
В «Есенин‑Центре» у вас же сейчас столик Высоцкого?
Не, я уже вернул Ире Апексимовой.
Тогда давайте расскажем эту историю. Потому что я знаю, что долгое время после смерти Владимира Семеновича он был нетронутым. Потом исчез.
Про столик я мог сказать такую вещь. Нельзя делать в Театре на Таганке мемориальную зону. Делать кабинет Любимова и не делать при этом кабинет напротив, это наша гримерка, где сидел Высоцкий. Ее делать просто бухгалтерией, как сейчас есть... Это ревность к Высоцкому. Чтобы его слава опять не затмила все остальное. И это слабость. И то, что сделали, – это плохо. Потому что да, есть мемориальный кабинет Юрия Петровича. Почему‑то сделали двери идиотские, такие, дубово‑пластмассовые. Почему‑то. У нас это было все живенько, скрипело, домовые какие‑то там бродили. Повесили 150 проекторов, которые изображают кабинет Любимова. И при этом нет гримерки Высоцкого, человека, который больше всех известен… Один репортер однажды сказал, это было в мою бытность, снимали фильм о театре: «Пришло время, когда фигура Высоцкого стала сравнима вообще с фигурами всего театра, а потом и превзошла». И я помню, как был недоволен Юрий Петрович. Он матерился, что этот корреспондент – идиот, тварь, мерзавец и подонок. А на самом деле он сказал, как есть. Ну почему они не сделали гримерку‑то Высоцкого?
Непонятно.
Это вот мелкое…
Ну а вот столик‑то, он исчез. А потом попал к вам в «Есенин‑Центр».
Да никуда он не исчез. Он там так и стоял. Просто…
А, по‑моему, это вы сказали, что вам очень жаль, что этого столика больше нет.
Ну вы представляете себе, что где‑то в бухгалтерии вы сбоку поставите еще и столик, кофе там на нем... Просто это не дело. Да, мы его вытащили. Спасибо Ире, которая сейчас директор Театра на Таганке.
Ирина Апексимова.
Спасибо ей за доверие. Потому что она просто по доверию мне дала этот столик. И мне кажется, мы его так расположили, что люди, которые пришли в «Есенин‑Центр», увидели «Таганки» больше у нас, нежели на Таганке. Я это не боюсь сказать, потому что это так и есть. Потому что по‑настоящему мы делали выставку, которая называлась «Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу». Когда мы сейчас с вами разговариваем, ребята мои разбирают эту выставку. Грустный день. Они мне сегодня звонили: «Слушай, а куда вот это, а куда это? Мы сейчас Татьяне Николаевне в ящик вот это запираем. А вот это мы вообще Сереге сейчас отдадим. А это на дачу куда‑то». Судьба выставки – она такая всегда. Есть же какие‑то больше вещи, которые никуда не вмещаются, они как бы и не нужны.
«Есенин‑Центр» – это же не просто музей. Это же театрально‑поэтическая лаборатория. Вы так это заявляете?
Да.
Чем сегодня живет «Есенин‑Центр»? И, собственно, это же юбилейный год – 125 лет со дня рождения и 95 со дня смерти <Есенина>. Что нам ждать от «Есенин‑Центра»?
Многие забыли, что юбилей – это кратное 25. Вот 25, 50, 75, 100, 125 – это юбилей. Некоторые начальники даже не понимают, что 125 – это настоящий юбилей. 80 – это не юбилей, это круглая дата. Спасибо за вопрос. Вот что нас ждет. Во‑первых, мы откроем сквер Поэтов и квартал Поэтов, про который я рассказывал. И это будет вокруг да около нашего «Есенин‑Центра». Во‑вторых, я думаю, что вместе с вашим прекрасным учреждением, институцией запустим проект… «Проект» – плохое слово. Начнем историю, которая будет называться «Время Есенина». Она вместит в себя и конкурсы, и движение какое‑то, и музыкальную историю, связанную с сочинением новых песен на стихи… Мне очень хочется, чтобы возникли новые песни, чтобы стереотип… Мне тут один замечательный человек на «Нашем Радио» сказал: «Ну у него же такая лирика…» Какая у него лирика? Он пожестче Маяковских будет. Сергей Александрович Есенин. И группа «Монгол Шуудан», вы знаете, в свое время сделала, и всем казалось, да, хорошая песня. А оказалось – бессмертная песня. Про Москву, кстати говоря (имеется в виду песня «Москва» на стихи Есенина – примеч. ред.). А когда‑то сочиняли люди. Или отдельные авторы. И мы знаем «Клен ты мой опавший», «Ты жива ль еще, моя старушка». Как Шукшин, который вдруг снял зэка в тюрьме, вставил в фильм «Калина Красная», и весь Советский Союз облился слезами, когда этот лопоухий зэк молодой пел Есенина. Люди готовы. Люди всех направлений, слоев, всех географических точек наших готовы петь, мне кажется, и говорить Есенина. Они готовы любить Есенина. Надо только им немножко помочь. И когда какие‑то замечательные группы и коллективы откликнутся – и знаменитые, и молодые – вот мы получим «Время Есенина».
И это будет совместно с порталом Стихи.ру.
Да.
В этом году 20 лет, напоминаю.
Круглая дата (смеются).
Да, совместно. И у нас есть текущие выставки в «Есенин‑Центре». Я вам первому сейчас скажу, что произойдет, я надеюсь. У нас готовится сенсация. После выставки «Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу», которая очень тепло была встречена и москвичами, и гостями столицы, мы будем делать выставку «Поэты, художники‑шестидесятники». Зверев, Яковлев, Ерофеев, Губанов. И у нас будут работы Зверева, Яковлева, которые нигде еще не выставлялись, из личной коллекции замечательной, великолепной, недавно ушедшей от нас Натальи Шмельковой, которая была музой у всех этих замечательных парней. И которая ухаживала за Яковлевым, ездила в психушку и так далее. Вы не представляете, какие мы выставим на всеобщее обозрение вещи – цветы, натюрморты, графику, женские портреты вот этих вот гениев. С их стихами! Потому что Зверев, как и Аполлинер в свое время, рисовал жирафа и писал стихотворение про жирафа. Вот у Зверева такие вещи. Этого никто не видел. Мы делаем это с прекрасной семьей моего друга Бориса Березовского, великого нашего пианиста. Его жена Элина, Боря – они наследники, потому что Наталья Шмелькова очень горячо хотела, чтобы эта семья продолжала историю.
Есть уже дата открытия выставки?
Нет.
Но в этом году?
Да. Весна. Что‑то апрельское. Приходите. Мы вас встретим, нальем. Приходите, разольем краски.
Ладно. А вот театр и поэзия у вас сегодня как соединяются? Есть, может быть, новые соединения?
Во‑первых, наш бродячий уличный Московский театр поэтов продолжает функционировать, действовать. У нас был такой интересный спектакль «Площадь революции», где только поэты отмечали столетие вот этих событий, лихолетья. И вы представляете, они же ровесники были тех замечательных больших поэтов, которые фигурировали, действовали в 1917 году. То есть у них такие же дни рождения – 93‑й год, 95‑й. Эти ребята говорили про свою жизнь. Очень интересные переклички, истории. Что касается нынешнего момента, я с радостью и опаской, потому что на театре никогда нельзя знать, что будет, я сейчас занимаюсь постановкой собственных басен в театре Калягина. Мне Сан Саныч оказал такую честь и доверие. Будущий спектакль называется «Осторожно, басни». И замечательные прекрасные актеры московского театра Et Cetera – квартет актеров и музыканты, кстати, там Сергей Федорович Летов среди музыкантов, распевают, танцуют, кричат, шепчут мои басни. И Калягин мне говорит: «Слушай, Влад, у авторов никогда не получалось хорошо ставить свои спектакли. Понимаешь? Вот я знаю, Володин чего‑то пытался, этот, тот…» А у Сан Саныча‑то огромный опыт. Все‑таки это величайший актер, творец и организатор. Я говорю: «Сан Саныч, у них же все‑таки была драматургия какая‑то». – «Но ты же, наверное, все выстроил в своей голове, и ты думаешь, что это так. И ничего не слышишь». – «Да все я слышу. Просто мы ищем язык». Мы ищем непохожий язык. Потому что басня – это очень непросто сделать на театре. Потому что басня – это же индивидуальный какой‑то спектакль – вот Женя прочтет, я прочту, Петя прочтет, Вася, но у каждого будет свой спектакль. У одного про лошадь, у другого – про ворону, у четвертого еще про кого‑то там, про овцу. А как все это соединить, чтобы это был не концерт, а спектакль? Музыка? Что вообще? И вот мы сейчас вместе с замечательным Андреем Щукиным, который педагог и режиссер по пластике Щукинского училища, с музыкантами, с Сан Санычем Калягиным, выслушивая его советы, варим этот суп. Приглашаю вас.
Когда будет готов?
Не знаю, можно ли это говорить, но 11 и 13 марта будет превью. Я думаю, что посерьезнее история будет в апреле, но уже будет все понятно в марте. Я очень волнуюсь.
Желаю вам удачи!
Спасибо большое.
По поводу Москвы. Вы родились в Москве, на Тверской, тогда на улице Горького, и когда‑то в интервью сказали… Собственно, что интервью, у вас поэма «Москва» заканчивается строчкой: «Вижу тебя без нечисти и Тверскую с липами по бокам». Вам не хватает лип, деревьев в Москве?
Это где‑то за 8 лет до того, как липы вернули. Кое‑где вернули. Вы же знаете, вот от Кремля все‑таки с двух сторон липы посадили до, наверное, Пушкинской.
А чего еще вам не хватает в Москве?
Отсутствия машин, конечно. Больше должно быть пешеходных зон. Наверное, так и будет. Не хватает московских двориков. Я с очень многим согласен, что делается. Я понимаю, чиновники живут в системе, как они работают. Многое сделано абсолютно правильно. За последние годы, я имею в виду. Я поддерживаю. Просто как коренной москвич, у которого папа родился на Берсеневской набережной. Но какие‑то вещи, связанные с московскими двориками, мне не очень нравятся. Когда ядо‑химикатную такую кладут арену, ставят ограждение, фонари, как на зоне, и дежурную колымагу, чтобы дети по ней лазили. И все. Ни травы, ни жучков, ни паучков. Мы ж выросли очень близко к природе. В Москве папоротник рос, и все на свете там было.
Крыжовник мы рвали в детстве.
У нас там такие были клумбы. Мы монеты, конечно, царские вынимали из земли. Хвалились друг перед другом.
Еще попал на одно ваше интервью, десятилетней давности, 2010 год, вы там сказали, что «человечество поглупело немножко». Прошло 10 лет, у вас как ощущение, этот процесс усилился? Или как? Просто на вашем месте сидел поэт Бахыт Кенжеев, который говорил, что мир сошел с ума. У вас какие ощущения сейчас?
Продолжается, конечно, процесс. Он усиливается. Те, кто не мог никогда в наше время считаться хорошим поэтом или гением, сейчас уже считается. Не знаю, чего происходит. Мне кажется, надо отваливать подальше куда‑то.
Но не из страны, надеюсь?
Нет, не из страны, не из страны... Хотя эта замечательная русская традиция гоголевская – писать и любить Россию издалека, она все‑таки тоже присутствует, работает (смеются).
Когда вы вели «До 16 и старше», сколько вам лет было?
Наверное, года 24.
И тогда на вас свалилась какая‑то дикая слава, популярность.
Да, да. Это такая железобетонная таблетка, которая действует до сих пор. Я помню, я приехал в Астрахань, зашел на рынок, и рынок затих. Представляете? Вот реально. А он же там такой, восточный, там люди разных национальностей. Затих! И один человек мне сказал, взял вот такую (показывает что‑то огромное) дыню или арбуз: «Возьми. И дочь – возьми еще мою дочь, пожалуйста. Вот прям с сегодняшнего дня она твоя». Она: «Не надо, папа!» (смеются).
Вот если представить сегодня, что вам 20-25 лет, вы в сегодняшнее телевидение могли бы вписаться? Вообще близко то, что сегодня происходит на телевидении?
Я все‑таки под себя все время все затачиваю. Я в этом смысле такой, командор. Я бы вписался, но начал бы потихонечку затачивать под себя. Я бы сделал свой мир. Обязательно надо делать свой мир. Но сейчас есть возможность делать свои Telegram-каналы, в youtube.
Сейчас да, все туда интересное уходит. А еще не могу не спросить, вы были военным корреспондентом, Вторая чеченская кампания. Правильно?
Я подружился с очень сложным удивительным человеком, которого всегда вспоминаю с теплом и благодарностью, Сергеем Говорухиным, сыном замечательного режиссера Станислав Сергеича Говорухина.
К сожалению, ушедшего.
Они оба ушли, к сожалению. И Сергей, он как‑то так проверял людей. Я ему говорю: «Сережа, я просто очень хочу с тобой работать. Неважно, в каком качестве. Хочу в твоей команде побыть». Он говорит: «Хочешь?» – «Да». – «Я тебе даю на размышление два дня. Хочешь – так для начала съезди кой‑куда». – «А куда?» – «Ну, с тобой будут говорить люди, у них вот такой иконостас. Они надежные люди, правда, если что, в лоб тебе дадут». – «А куда?» – «Ну вот туда». И я пошел, помню. Вышел, пошел, и картина у меня изменилась вся. Знаешь, вот одно слово человек скажет, а ты выходишь, у тебя уже по-другому машины ездят, по‑другому город шумит, девочки по‑другому смеются. Это так полезно. И я пришел, говорю: «Да». Он такой – фу-у-у-у (выдыхает). Мне потом один человек сказал: «Он так переживал эти два дня. Не дай бог, ты сказал бы нет, ты бы просто не существовал в его жизни. Хотя он сам потом переживал, когда вы уехали, места себе не находил, вдруг что». Как он нас пришел встречать, я помню. Ночью. С синяком каким‑то, Серега как всегда где‑то подрался. В военном аэропорту, мы этот коньяк в каком‑то прилеске там <пьем>… Такие мы были счастливые.
А было несколько командировок? Или одна?
Еще вторая была поездка… Но она уже была связана с дружбой с теми людьми, которых я встретил. Я до сих пор дружу со многими великолепными людьми, очень надежными, настоящими. Просто они в разных местах страны. Кто‑то в Новосибирске живет, кто‑то в Москве, на Дальнем Востоке. Служат. А кто-то уже не служит.
А были вещи, о которых хотелось рассказать, но не было возможности. То есть там вы что‑то увидели, хотелось рассказать, но по каким‑то причинам нельзя было.
Конечно. Мы ж все‑таки там со спецназом встречались. У нас есть записи интересные. Но они такие, их можно, в принципе, показывать. Я бы не светил каких‑то людей просто.
Я про цензуру хотел спросить. Были вещи, которые вы хотели рассказать, а вам говорили: «Нет, это у нас не пройдет».
Да я не знаю. Но я там встретил людей. Это была очень полезная история. Я помню, я вернулся из этой командировки и мне больше не хотелось, я думал, я больше никогда не переступлю порог театра. Никогда.
А, это вы еще были на Таганке. Ну да.
Так, полубыл. Я был опальный стрелок. Театр не заметил моего отсутствия. И когда я приехал, они так и не поняли. Просто там какие‑то замечательные люди. Чистые. Интересные.
Война, она же проявляет и высоту духа человеческого, и низость, наверное, тоже. Чего больше‑то?
Мы не можем говорить про войну. Мы же не фронтовики. Мы случайно попавшие, посмотревшие, как люди работают. Главное было – не мешать. Нам, с нашими стишками, только не мешать. И то там Серега договорился, чтобы нас везде брали и везде затаскивали. Господи. Я там испереживался. Потому что приходилось сливаться с этими замечательными людьми. Быть, как они, какое‑то время. Но какие уж мы вояки, господи.
И про Бессмертный полк не могу не спросить. Вы стояли у истоков этой акции. А то, что она так попала...
У истоков люди стояли, народ. Я занимался непосредственно организацией на главной площади нашей страны. Если такое слово вообще возможно применительно к Бессмертному полку, занимался организацией контента: что на экранах, что слышно, какие песни… Волею судьбы мне всучили микрофон, потому что надо было организовывать. Никто не знал, сколько народу придет, сколько уйдет, что вообще будет. И мне вот так дали микрофон: «Говори!» Я даже не знал, что говорить, первый раз. И когда я начал говорить... Ну, представь себе, я говорю: «Дорогие друзья». И вдруг понимаю, что мой голос, мой, он бьется в ГУМ, отражается от Кремлевской стены, потом обратно, потом обратно, куранты (напевает). А я говорю чего‑то. Я чуть не заплакал вообще. И с тех пор меня зовут что‑то такое объявлять, настраивать людей: дорогие друзья, вот сейчас будет это, сейчас это. И это, конечно, невероятно почетно. Просто этим заниматься и ничего за это не получать, кроме причастности и взглядов людей.
Мы сейчас в нашем «Есенин‑Центре», так счастливо оказалось, наш разговор можно даже к этому закруглить… У нас в соседнем доме живет Николай Лукьянович Дупак. Ему 99‑й год. Он кавалер ордена Боевого Красного Знамени. Ему отстрелили легкое во время войны. Его похоронили, потом случайно нашли, какой‑то человек его случайно вытащил, потому что он застонал. Он директор Театра на Таганке. Он брал на работу Высоцкого, да и Юрия Петровича тоже. Потому что Николай Лукьянович – директор. А когда началась война, он, молодой актер, снимался в фильме Довженко «Тарас Бульба». 22 июня 1941 года у них был съемочный день. В Киеве. И он ушел на фронт. Он пришел к нам в «Есенин‑Центр» и говорит: «Ребятушки, да мы тут почудим. Да мы похулиганим здесь. Да это же Таганочка». И он теперь к нам ходит. Мы ответственные за «Ночь театров» в нашем городе, будем делать поэтическое представление «Небо победы». И я хочу, чтобы, дай бог, Николай Лукьянович в конце этого спектакля вышел. А я хочу сказать такие слова. В книге Юрия Владимировича Никулина «Почти серьезно» есть такая заметочка, что они, маленькие пацаны, когда в Москве были, ходила легенда, что по Москве ходит последний ветеран войны 1812 года. Или даже Севастопольского сражения. Что он ходит, еле передвигает ноги, но за ним бегут мальчишки, а он ничего не помнит, но на нем какие‑то награды, и все хотят посмотреть на него, чтобы видеть в его глазах отражение истории. И пишет Никулин: «Когда‑нибудь ведь наступит момент, когда последний из нас, – а Никулин воевал на двух войнах, Финская, Великая Отечественная, – пойдет по Москве». И он наступает, этот момент, Жень. Он наступает. И я вижу Николая Лукьяновича как одного из, наверное, последних таких героев. Скромных героев. Заслуженный артист РСФСР. Я думаю, елки‑палки, сколько уж народных‑то у нас. И хочется дать ему звание и народного, и, я не знаю, какое, любое! Но только чтобы он был жив. И что‑то такое прочитал на нашем спектакле.
Спасибо большое, Влад!
Просто я очень близко подошел к нему, я имею в виду, в профессиональных каких‑то вещах. Не только столик, который рядом стоял, но и Юрий Петрович, какие‑то его близкие люди ведь стали и для меня по‑настоящему близкими. Я имею в виду, например, Ивана Бортника. Я всегда считал Высоцкого загадочным поэтом. Это загадочное, очень большое явление. Я не люблю читать Высоцкого с листа, я очень не люблю, когда его поют. Я увиливал, вот поверьте мне, 20 лет увиливал петь его песни в спектакле «Владимир Высоцкий». Меня просил шеф, я куда‑то отвлекался, уходил… Где все пели, я пел. А вот чтоб один взять и спеть… Не то что я стеснялся или считал, не имею права. Я просто считал это невозможным с точки зрения профессионально‑духовной, что ли. Я понимал, что я так не попаду. Надо попасть. Вот почитать его интересно, я бы мог. Поэтому я там занимался пародиями какими‑то, как только не изгалялся, только чтобы мне не предложили петь. Потому что вышел ты с гитарой или с баяном и начал петь песни Высоцкого... Я до сих пор жутко стесняюсь и очень не люблю эти все конкурсы, меня подташнивает от них. Мы понимаем, какое это явление было. Необыкновенное совершенно. Сравнивать не сравниваю. Любимый поэт у меня другой.
Не скажете, кто?
Пушкин (смеются). Александр Сергеевич.
Вы, кстати, хорошо сказали, что Высоцкий – явление, потому что сказать – актер, сказать – поэт... Он явление. Он все вместе.
Он загадочный поэт. Все равно с его голосом невероятным, с его скошенным лбом, не вмещающимся в обычные рамки энергетическим посылом…
В «Есенин‑Центре» у вас же сейчас столик Высоцкого?
Не, я уже вернул Ире Апексимовой.
Тогда давайте расскажем эту историю. Потому что я знаю, что долгое время после смерти Владимира Семеновича он был нетронутым. Потом исчез.
Про столик я мог сказать такую вещь. Нельзя делать в Театре на Таганке мемориальную зону. Делать кабинет Любимова и не делать при этом кабинет напротив, это наша гримерка, где сидел Высоцкий. Ее делать просто бухгалтерией, как сейчас есть... Это ревность к Высоцкому. Чтобы его слава опять не затмила все остальное. И это слабость. И то, что сделали, – это плохо. Потому что да, есть мемориальный кабинет Юрия Петровича. Почему‑то сделали двери идиотские, такие, дубово‑пластмассовые. Почему‑то. У нас это было все живенько, скрипело, домовые какие‑то там бродили. Повесили 150 проекторов, которые изображают кабинет Любимова. И при этом нет гримерки Высоцкого, человека, который больше всех известен… Один репортер однажды сказал, это было в мою бытность, снимали фильм о театре: «Пришло время, когда фигура Высоцкого стала сравнима вообще с фигурами всего театра, а потом и превзошла». И я помню, как был недоволен Юрий Петрович. Он матерился, что этот корреспондент – идиот, тварь, мерзавец и подонок. А на самом деле он сказал, как есть. Ну почему они не сделали гримерку‑то Высоцкого?
Непонятно.
Это вот мелкое…
Ну а вот столик‑то, он исчез. А потом попал к вам в «Есенин‑Центр».
Да никуда он не исчез. Он там так и стоял. Просто…
А, по‑моему, это вы сказали, что вам очень жаль, что этого столика больше нет.
Ну вы представляете себе, что где‑то в бухгалтерии вы сбоку поставите еще и столик, кофе там на нем... Просто это не дело. Да, мы его вытащили. Спасибо Ире, которая сейчас директор Театра на Таганке.
Ирина Апексимова.
Спасибо ей за доверие. Потому что она просто по доверию мне дала этот столик. И мне кажется, мы его так расположили, что люди, которые пришли в «Есенин‑Центр», увидели «Таганки» больше у нас, нежели на Таганке. Я это не боюсь сказать, потому что это так и есть. Потому что по‑настоящему мы делали выставку, которая называлась «Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу». Когда мы сейчас с вами разговариваем, ребята мои разбирают эту выставку. Грустный день. Они мне сегодня звонили: «Слушай, а куда вот это, а куда это? Мы сейчас Татьяне Николаевне в ящик вот это запираем. А вот это мы вообще Сереге сейчас отдадим. А это на дачу куда‑то». Судьба выставки – она такая всегда. Есть же какие‑то больше вещи, которые никуда не вмещаются, они как бы и не нужны.
«Есенин‑Центр» – это же не просто музей. Это же театрально‑поэтическая лаборатория. Вы так это заявляете?
Да.
Чем сегодня живет «Есенин‑Центр»? И, собственно, это же юбилейный год – 125 лет со дня рождения и 95 со дня смерти <Есенина>. Что нам ждать от «Есенин‑Центра»?
Многие забыли, что юбилей – это кратное 25. Вот 25, 50, 75, 100, 125 – это юбилей. Некоторые начальники даже не понимают, что 125 – это настоящий юбилей. 80 – это не юбилей, это круглая дата. Спасибо за вопрос. Вот что нас ждет. Во‑первых, мы откроем сквер Поэтов и квартал Поэтов, про который я рассказывал. И это будет вокруг да около нашего «Есенин‑Центра». Во‑вторых, я думаю, что вместе с вашим прекрасным учреждением, институцией запустим проект… «Проект» – плохое слово. Начнем историю, которая будет называться «Время Есенина». Она вместит в себя и конкурсы, и движение какое‑то, и музыкальную историю, связанную с сочинением новых песен на стихи… Мне очень хочется, чтобы возникли новые песни, чтобы стереотип… Мне тут один замечательный человек на «Нашем Радио» сказал: «Ну у него же такая лирика…» Какая у него лирика? Он пожестче Маяковских будет. Сергей Александрович Есенин. И группа «Монгол Шуудан», вы знаете, в свое время сделала, и всем казалось, да, хорошая песня. А оказалось – бессмертная песня. Про Москву, кстати говоря (имеется в виду песня «Москва» на стихи Есенина – примеч. ред.). А когда‑то сочиняли люди. Или отдельные авторы. И мы знаем «Клен ты мой опавший», «Ты жива ль еще, моя старушка». Как Шукшин, который вдруг снял зэка в тюрьме, вставил в фильм «Калина Красная», и весь Советский Союз облился слезами, когда этот лопоухий зэк молодой пел Есенина. Люди готовы. Люди всех направлений, слоев, всех географических точек наших готовы петь, мне кажется, и говорить Есенина. Они готовы любить Есенина. Надо только им немножко помочь. И когда какие‑то замечательные группы и коллективы откликнутся – и знаменитые, и молодые – вот мы получим «Время Есенина».
И это будет совместно с порталом Стихи.ру.
Да.
В этом году 20 лет, напоминаю.
Круглая дата (смеются).
Да, совместно. И у нас есть текущие выставки в «Есенин‑Центре». Я вам первому сейчас скажу, что произойдет, я надеюсь. У нас готовится сенсация. После выставки «Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу», которая очень тепло была встречена и москвичами, и гостями столицы, мы будем делать выставку «Поэты, художники‑шестидесятники». Зверев, Яковлев, Ерофеев, Губанов. И у нас будут работы Зверева, Яковлева, которые нигде еще не выставлялись, из личной коллекции замечательной, великолепной, недавно ушедшей от нас Натальи Шмельковой, которая была музой у всех этих замечательных парней. И которая ухаживала за Яковлевым, ездила в психушку и так далее. Вы не представляете, какие мы выставим на всеобщее обозрение вещи – цветы, натюрморты, графику, женские портреты вот этих вот гениев. С их стихами! Потому что Зверев, как и Аполлинер в свое время, рисовал жирафа и писал стихотворение про жирафа. Вот у Зверева такие вещи. Этого никто не видел. Мы делаем это с прекрасной семьей моего друга Бориса Березовского, великого нашего пианиста. Его жена Элина, Боря – они наследники, потому что Наталья Шмелькова очень горячо хотела, чтобы эта семья продолжала историю.
Есть уже дата открытия выставки?
Нет.
Но в этом году?
Да. Весна. Что‑то апрельское. Приходите. Мы вас встретим, нальем. Приходите, разольем краски.
Ладно. А вот театр и поэзия у вас сегодня как соединяются? Есть, может быть, новые соединения?
Во‑первых, наш бродячий уличный Московский театр поэтов продолжает функционировать, действовать. У нас был такой интересный спектакль «Площадь революции», где только поэты отмечали столетие вот этих событий, лихолетья. И вы представляете, они же ровесники были тех замечательных больших поэтов, которые фигурировали, действовали в 1917 году. То есть у них такие же дни рождения – 93‑й год, 95‑й. Эти ребята говорили про свою жизнь. Очень интересные переклички, истории. Что касается нынешнего момента, я с радостью и опаской, потому что на театре никогда нельзя знать, что будет, я сейчас занимаюсь постановкой собственных басен в театре Калягина. Мне Сан Саныч оказал такую честь и доверие. Будущий спектакль называется «Осторожно, басни». И замечательные прекрасные актеры московского театра Et Cetera – квартет актеров и музыканты, кстати, там Сергей Федорович Летов среди музыкантов, распевают, танцуют, кричат, шепчут мои басни. И Калягин мне говорит: «Слушай, Влад, у авторов никогда не получалось хорошо ставить свои спектакли. Понимаешь? Вот я знаю, Володин чего‑то пытался, этот, тот…» А у Сан Саныча‑то огромный опыт. Все‑таки это величайший актер, творец и организатор. Я говорю: «Сан Саныч, у них же все‑таки была драматургия какая‑то». – «Но ты же, наверное, все выстроил в своей голове, и ты думаешь, что это так. И ничего не слышишь». – «Да все я слышу. Просто мы ищем язык». Мы ищем непохожий язык. Потому что басня – это очень непросто сделать на театре. Потому что басня – это же индивидуальный какой‑то спектакль – вот Женя прочтет, я прочту, Петя прочтет, Вася, но у каждого будет свой спектакль. У одного про лошадь, у другого – про ворону, у четвертого еще про кого‑то там, про овцу. А как все это соединить, чтобы это был не концерт, а спектакль? Музыка? Что вообще? И вот мы сейчас вместе с замечательным Андреем Щукиным, который педагог и режиссер по пластике Щукинского училища, с музыкантами, с Сан Санычем Калягиным, выслушивая его советы, варим этот суп. Приглашаю вас.
Когда будет готов?
Не знаю, можно ли это говорить, но 11 и 13 марта будет превью. Я думаю, что посерьезнее история будет в апреле, но уже будет все понятно в марте. Я очень волнуюсь.
Желаю вам удачи!
Спасибо большое.
По поводу Москвы. Вы родились в Москве, на Тверской, тогда на улице Горького, и когда‑то в интервью сказали… Собственно, что интервью, у вас поэма «Москва» заканчивается строчкой: «Вижу тебя без нечисти и Тверскую с липами по бокам». Вам не хватает лип, деревьев в Москве?
Это где‑то за 8 лет до того, как липы вернули. Кое‑где вернули. Вы же знаете, вот от Кремля все‑таки с двух сторон липы посадили до, наверное, Пушкинской.
А чего еще вам не хватает в Москве?
Отсутствия машин, конечно. Больше должно быть пешеходных зон. Наверное, так и будет. Не хватает московских двориков. Я с очень многим согласен, что делается. Я понимаю, чиновники живут в системе, как они работают. Многое сделано абсолютно правильно. За последние годы, я имею в виду. Я поддерживаю. Просто как коренной москвич, у которого папа родился на Берсеневской набережной. Но какие‑то вещи, связанные с московскими двориками, мне не очень нравятся. Когда ядо‑химикатную такую кладут арену, ставят ограждение, фонари, как на зоне, и дежурную колымагу, чтобы дети по ней лазили. И все. Ни травы, ни жучков, ни паучков. Мы ж выросли очень близко к природе. В Москве папоротник рос, и все на свете там было.
Крыжовник мы рвали в детстве.
У нас там такие были клумбы. Мы монеты, конечно, царские вынимали из земли. Хвалились друг перед другом.
Еще попал на одно ваше интервью, десятилетней давности, 2010 год, вы там сказали, что «человечество поглупело немножко». Прошло 10 лет, у вас как ощущение, этот процесс усилился? Или как? Просто на вашем месте сидел поэт Бахыт Кенжеев, который говорил, что мир сошел с ума. У вас какие ощущения сейчас?
Продолжается, конечно, процесс. Он усиливается. Те, кто не мог никогда в наше время считаться хорошим поэтом или гением, сейчас уже считается. Не знаю, чего происходит. Мне кажется, надо отваливать подальше куда‑то.
Но не из страны, надеюсь?
Нет, не из страны, не из страны... Хотя эта замечательная русская традиция гоголевская – писать и любить Россию издалека, она все‑таки тоже присутствует, работает (смеются).
Когда вы вели «До 16 и старше», сколько вам лет было?
Наверное, года 24.
И тогда на вас свалилась какая‑то дикая слава, популярность.
Да, да. Это такая железобетонная таблетка, которая действует до сих пор. Я помню, я приехал в Астрахань, зашел на рынок, и рынок затих. Представляете? Вот реально. А он же там такой, восточный, там люди разных национальностей. Затих! И один человек мне сказал, взял вот такую (показывает что‑то огромное) дыню или арбуз: «Возьми. И дочь – возьми еще мою дочь, пожалуйста. Вот прям с сегодняшнего дня она твоя». Она: «Не надо, папа!» (смеются).
Вот если представить сегодня, что вам 20-25 лет, вы в сегодняшнее телевидение могли бы вписаться? Вообще близко то, что сегодня происходит на телевидении?
Я все‑таки под себя все время все затачиваю. Я в этом смысле такой, командор. Я бы вписался, но начал бы потихонечку затачивать под себя. Я бы сделал свой мир. Обязательно надо делать свой мир. Но сейчас есть возможность делать свои Telegram-каналы, в youtube.
Сейчас да, все туда интересное уходит. А еще не могу не спросить, вы были военным корреспондентом, Вторая чеченская кампания. Правильно?
Я подружился с очень сложным удивительным человеком, которого всегда вспоминаю с теплом и благодарностью, Сергеем Говорухиным, сыном замечательного режиссера Станислав Сергеича Говорухина.
К сожалению, ушедшего.
Они оба ушли, к сожалению. И Сергей, он как‑то так проверял людей. Я ему говорю: «Сережа, я просто очень хочу с тобой работать. Неважно, в каком качестве. Хочу в твоей команде побыть». Он говорит: «Хочешь?» – «Да». – «Я тебе даю на размышление два дня. Хочешь – так для начала съезди кой‑куда». – «А куда?» – «Ну, с тобой будут говорить люди, у них вот такой иконостас. Они надежные люди, правда, если что, в лоб тебе дадут». – «А куда?» – «Ну вот туда». И я пошел, помню. Вышел, пошел, и картина у меня изменилась вся. Знаешь, вот одно слово человек скажет, а ты выходишь, у тебя уже по-другому машины ездят, по‑другому город шумит, девочки по‑другому смеются. Это так полезно. И я пришел, говорю: «Да». Он такой – фу-у-у-у (выдыхает). Мне потом один человек сказал: «Он так переживал эти два дня. Не дай бог, ты сказал бы нет, ты бы просто не существовал в его жизни. Хотя он сам потом переживал, когда вы уехали, места себе не находил, вдруг что». Как он нас пришел встречать, я помню. Ночью. С синяком каким‑то, Серега как всегда где‑то подрался. В военном аэропорту, мы этот коньяк в каком‑то прилеске там <пьем>… Такие мы были счастливые.
А было несколько командировок? Или одна?
Еще вторая была поездка… Но она уже была связана с дружбой с теми людьми, которых я встретил. Я до сих пор дружу со многими великолепными людьми, очень надежными, настоящими. Просто они в разных местах страны. Кто‑то в Новосибирске живет, кто‑то в Москве, на Дальнем Востоке. Служат. А кто-то уже не служит.
А были вещи, о которых хотелось рассказать, но не было возможности. То есть там вы что‑то увидели, хотелось рассказать, но по каким‑то причинам нельзя было.
Конечно. Мы ж все‑таки там со спецназом встречались. У нас есть записи интересные. Но они такие, их можно, в принципе, показывать. Я бы не светил каких‑то людей просто.
Я про цензуру хотел спросить. Были вещи, которые вы хотели рассказать, а вам говорили: «Нет, это у нас не пройдет».
Да я не знаю. Но я там встретил людей. Это была очень полезная история. Я помню, я вернулся из этой командировки и мне больше не хотелось, я думал, я больше никогда не переступлю порог театра. Никогда.
А, это вы еще были на Таганке. Ну да.
Так, полубыл. Я был опальный стрелок. Театр не заметил моего отсутствия. И когда я приехал, они так и не поняли. Просто там какие‑то замечательные люди. Чистые. Интересные.
Война, она же проявляет и высоту духа человеческого, и низость, наверное, тоже. Чего больше‑то?
Мы не можем говорить про войну. Мы же не фронтовики. Мы случайно попавшие, посмотревшие, как люди работают. Главное было – не мешать. Нам, с нашими стишками, только не мешать. И то там Серега договорился, чтобы нас везде брали и везде затаскивали. Господи. Я там испереживался. Потому что приходилось сливаться с этими замечательными людьми. Быть, как они, какое‑то время. Но какие уж мы вояки, господи.
И про Бессмертный полк не могу не спросить. Вы стояли у истоков этой акции. А то, что она так попала...
У истоков люди стояли, народ. Я занимался непосредственно организацией на главной площади нашей страны. Если такое слово вообще возможно применительно к Бессмертному полку, занимался организацией контента: что на экранах, что слышно, какие песни… Волею судьбы мне всучили микрофон, потому что надо было организовывать. Никто не знал, сколько народу придет, сколько уйдет, что вообще будет. И мне вот так дали микрофон: «Говори!» Я даже не знал, что говорить, первый раз. И когда я начал говорить... Ну, представь себе, я говорю: «Дорогие друзья». И вдруг понимаю, что мой голос, мой, он бьется в ГУМ, отражается от Кремлевской стены, потом обратно, потом обратно, куранты (напевает). А я говорю чего‑то. Я чуть не заплакал вообще. И с тех пор меня зовут что‑то такое объявлять, настраивать людей: дорогие друзья, вот сейчас будет это, сейчас это. И это, конечно, невероятно почетно. Просто этим заниматься и ничего за это не получать, кроме причастности и взглядов людей.
Мы сейчас в нашем «Есенин‑Центре», так счастливо оказалось, наш разговор можно даже к этому закруглить… У нас в соседнем доме живет Николай Лукьянович Дупак. Ему 99‑й год. Он кавалер ордена Боевого Красного Знамени. Ему отстрелили легкое во время войны. Его похоронили, потом случайно нашли, какой‑то человек его случайно вытащил, потому что он застонал. Он директор Театра на Таганке. Он брал на работу Высоцкого, да и Юрия Петровича тоже. Потому что Николай Лукьянович – директор. А когда началась война, он, молодой актер, снимался в фильме Довженко «Тарас Бульба». 22 июня 1941 года у них был съемочный день. В Киеве. И он ушел на фронт. Он пришел к нам в «Есенин‑Центр» и говорит: «Ребятушки, да мы тут почудим. Да мы похулиганим здесь. Да это же Таганочка». И он теперь к нам ходит. Мы ответственные за «Ночь театров» в нашем городе, будем делать поэтическое представление «Небо победы». И я хочу, чтобы, дай бог, Николай Лукьянович в конце этого спектакля вышел. А я хочу сказать такие слова. В книге Юрия Владимировича Никулина «Почти серьезно» есть такая заметочка, что они, маленькие пацаны, когда в Москве были, ходила легенда, что по Москве ходит последний ветеран войны 1812 года. Или даже Севастопольского сражения. Что он ходит, еле передвигает ноги, но за ним бегут мальчишки, а он ничего не помнит, но на нем какие‑то награды, и все хотят посмотреть на него, чтобы видеть в его глазах отражение истории. И пишет Никулин: «Когда‑нибудь ведь наступит момент, когда последний из нас, – а Никулин воевал на двух войнах, Финская, Великая Отечественная, – пойдет по Москве». И он наступает, этот момент, Жень. Он наступает. И я вижу Николая Лукьяновича как одного из, наверное, последних таких героев. Скромных героев. Заслуженный артист РСФСР. Я думаю, елки‑палки, сколько уж народных‑то у нас. И хочется дать ему звание и народного, и, я не знаю, какое, любое! Но только чтобы он был жив. И что‑то такое прочитал на нашем спектакле.
Спасибо большое, Влад!
Евгений Сулес
