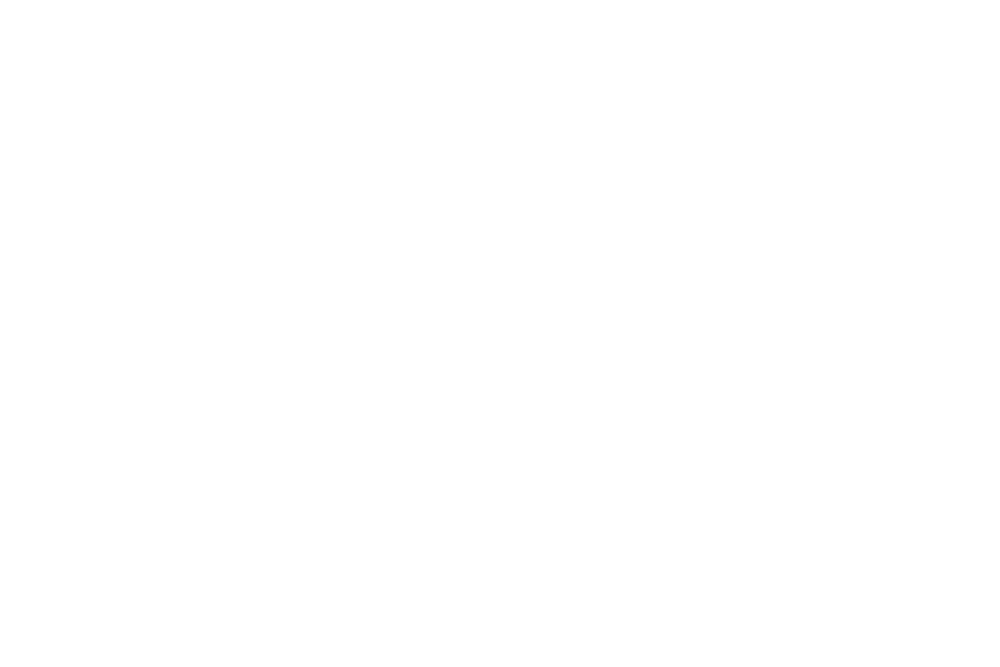
Юрий Кублановский
Интервью: Евгений Сулес
У нас в гостях Юрий Михайлович Кублановский – поэт, эссеист, публицист, литературный критик. Здравствуйте, Юрий Михайлович!
Здравствуйте!
Скажите, Юрий Михайлович, как вам живется в современной России?
Как сказать… Жизнь человека, его судьба – это сам человек, и как он себя ощущает, так ему и живется. Не скажу, что сейчас я мрачно настроен, хотя прогнозы пессимистичные, но я остаюсь оптимистом. Самое опасное и тяжелое время было – это 90‑е годы, время криминальной революции. Тогда унижение нашей родины я воспринимал очень тяжело, и казалось, что выхода нет. Сейчас это совсем не так. И того кромешного одиночества, как в 90‑е, я уже не чувствую. Или, как говорил Корней Чуковский, в России надо жить долго. Вот надо было мне дожить до 60–70 лет, чтобы я почувствовал себя в своей тарелке.
Вы жили в СССР, потом был период эмиграции. Вернулись в 1990 году первым из наших политических эмигрантов. Дальше были 90-е, «нулевые», и самыми сложными вы называете 90‑е?
Как ни удивительно, но вернувшись на родину именно в 90‑е, я ощущал себя более одиноким, чем в изгнании, настолько вся среда и тогдашняя внутренняя политика были мне чужды. Есть замечательная сцена в «Бесах» у Достоевского, в которой провинциальный революционер Щиголев говорит о будущей революции: «…мы дадим народу право на бесчестие, и тогда все к нам перебегут». В 90‑е я очень ощущал, что дано право на бесчестие. Ведь мы для чего хотели, чтобы советская власть трансформировалась во что‑то, отвечающее традиционным судьбам России? Прежде всего, для повышения морального климата общества. А в 90‑е мы погрузились в такую моральную яму, в которую не входили даже при Советском Союзе. Тогда я ощущал это так.
Кстати, «Бесов» я перечитал в этом году – очень актуально.
Их надо перечитывать каждые пять-шесть лет.
Скажите, положа руку на сердце, вы вернулись первым – не пожалели в какой-то момент?
Нет, конечно. Может, если бы я был технократом, программистом, я бы не вернулся. Я уже пустил там корни – у меня были хорошие условия для жизни, я собрал хорошую библиотеку. Но поэту надо жить одной жизнью со своим языком, со своими читателями, если он хочет оставаться поэтом. Во всяком случае, у меня такое мирочувствование. Были и другие прекрасные поэты, которым родина была не важна, как Иосиф Бродский.
Действительно она ему была неважна?
Абсолютно! Когда я уезжал, спросил у него: «Иосиф, неужели ты не испытываешь даже бабьего любопытства к тому, что там сейчас происходит, после того как в „совке" пошла трещина?!» Он ответил: «Абсолютно неинтересно, мне все известно заранее». И много таких литераторов, которые там себя нашли и хорошо себя чувствуют, но моя поэзия все же больше уходит корнями в родную почву.
Но есть версия, что у Бродского была большая обида, и он хотел приехать, но не признавался в этом.
Ерунда. Не знаю, кто это придумал.
Вернувшись в 1990 году, еще в СССР, вы успели получить советский паспорт?
Нет, я вообще четыре года не мог добиться разрешения на получение паспорта. До 1993 или 1994 года ходил без документов, у меня был эмигрантский паспорт и вид на жительство. И Юрий Карякин (советский и российский литературовед, писатель, публицист, общественный деятель – примеч. ред.), который был тогда на плаву, лично обращался к Горбачеву, Ельцину, чтобы мне вернули гражданство, но всем было наплевать.
В интервью Дмитрию Смирнову вы процитировали хорошую фразу: «беда Москвы в том, что она со всех сторон окружена Россией». Вы много ездите – какая она, Россия, что там за Москвой?
Очень разная. Однозначно не охарактеризуешь. Вот десять дней назад (съемка передачи проходила в 2018 г. – примеч. ред.) мы с друзьями-киношниками рано утром выехали из Рыбинска, ехали через Романов-Борисоглебск, потом через село Курба (названное в честь Дмитрия Курбского) проехали до Ростова Великого и до Переславль-Залесского. Как будто в какой‑то будущей России были: всюду хорошо одетые люди, семейные пары с хорошими колясками. Ни одной мусорной кучи не видели за всю дорогу. Мы были поражены. 12 часов дороги – отличное дорожное покрытие, идеальная Россия, хотя мы ехали отнюдь не центральными дорогами! А иногда нарвешься на такое – будто мессершмитты отбомбились, такие дороги. Особенно много грязи вдоль обочин дорог, где дачные поселки москвичей. Они как свиньи: уезжают после выходных с дачи, все лишнее складывают в мешок, мешок выставляют на дорогу, и потом это растаскивают псы и птицы. А попробуй поехать в сторону Тулы или Поленова – моя супруга правнучка великого художника Поленова – и всюду возле автобусных остановок фрагменты этой экологической катастрофы.
Что хорошо – выходят прекрасные провинциальные журналы – «Рыбная слобода» в Рыбинске, «Угличе-поле» в Угличе – читаешь от корки до корки. Очень качественно сделано. По краеведению постоянные конференции проводятся. Батюшки выполняют свой долг опять же. В моем родном Рыбинске много превосходных приходов, которые живут полноценной жизнью. И когда я слышу на канале «Дождь» или «Эхо Москвы», что все вот-вот закроется и стои́т на грани с пропастью – это совершенно не отвечает моим представлениям.
То есть это пафос, когда люди говорят, что стоит отъехать от Москвы, и жить не захочется!..
Это чепуха! Это все придумки Шендеровича…
Знаю, что вы каждый год бываете в родном Рыбинске. Что это для вас и почему так важно?
Могилы мамы, бабушки. Со знакомым священником ездил к ним на могилы и служил панихиду – вот главная причина.
А помимо этого? Может, это ваше место силы?
К сожалению, Рыбинск понес такие гигантские потери и при коммунистах, и в 90‑е годы, что все там окружающее больше терзает душу. Не осталось деревянной архитектуры стиля модерн – все погибло. На кладбище вырублены все деревья и разрушена вся планировка – я не могу даже найти могилы близких товарищей, которых всегда навещал. Так что в этом смысле Рыбинск уже не может быть таким местом силы, но когда меня туда приглашают – с презентацией книги или на конференцию, я еду. Вот владыка Вениамин проводил конференцию на тему новомучеников нашего Рыбинского уезда – как было не поехать?! Столько людей пострадало, было уничтожено, такие потери в живой силе.
И вы, естественно, почетный гражданин Рыбинска?
Да.
У вас очень интересная родословная. По маминой линии, начиная с XVIII века, – духовное сословие, один из дедов – новомученик. Отец был театральным актером, режиссером, выходец из еврейской семьи. Как вы в себе ощущаете такую смесь культур и разной крови?
Думаю, еврейская частица помогла мне мобилизоваться и не позволила, как большинству моих сверстников, разложиться в богеме и попросту спиться. Все-таки евреи более дисциплинированны, чем русские.
Такой ген выживания…
Вот был поэт огромного таланта – Леня Губанов, но сгорел как метеор. В 90‑е годы были поэты, на которых я возлагал определенные надежды, – Денис Новиков, Борис Рыжий. Тоже сгорели. Мы хоть в противлении коммунизму и атеистической идеологии росли, а тут просто жизнь съела. Руси тяжело и под коммунистами было, и лучшие поэты в 90‑е погибли.
Сталкивались когда-то с антисемитизмом?
Никогда в жизни! Мне кажется, его даже и нет.
А вас обвиняли в антисемитизме?
Конечно! В антисемитизме обвиняли недобросовестные люди Солженицына, а на меня еще в эмиграции, наклеили, как бубнового туза на спину, клеймо – человек Солженицына. И эта клевета отзывалась и на мне. В середине 90‑х вдруг олигархи задумали в Кремле антифашистский конгресс <провести> и попросили у государства денег на это. Что за наглость, когда учителя или врачи падали в голодный обморок, не получая зарплату?! Я резко выступил против такого бесстыдства, и конечно тут был целый вал <возмущений >. Мне вообще трудно пришлось. То, что меня замалчивает критика, обо мне не появилось ни одной серьезной статьи, что меня там, там обходят – я чувствую, что есть негласный заговор либеральной жандармерии, как говорил то ли Аполлон Григорьев, то ли Александр Блок. Я, так сказать, у них на подозрении. Но я живу своей жизнью, «самостоянье человека – залог величия его». Конечно, обидно, ведь я мог сделать для своих современников больше и как публицист, и как поэт, потому что поэзия закаляет душу. Если бы мою поэзию популяризировали так, как они популяризируют свою. Но нет так нет – что поделаешь.
Сама идея либерализма прекрасная: очень человечная, гуманная, но почему‑то, особенно у нас, люди, примкнувшие к либералам, вообще не принимают никаких чужих взглядов, хотя, казалось бы, либерал и должен быть терпимым к иным взглядам…
Большей нетерпимости, чем у либералов, я вообще не встречал. Это какие‑то истовые фанатики. Я сам – кто, если не либерал? Даже так скажу: во мне либеральный консерватизм. Это та же идеология, которая была у зрелого Пушкина в 20‑е годы, у Солженицына, у русских предреволюционных философов. Либерализм – необходимая составляющая мировоззрения любого цивилизованного человека. Это не может быть заменой любви к отечеству и пониманию красоты отечественной культуры и всего того, что они отрицают. Никто не отменял содомского греха и всего, что с ним связано. Слава богу, у нас еще не проводят гей-парады на Красной площади, а могли бы, если бы все развивалось, как было запланировано в 90‑е. Все-таки наша страна при всех «но» сохраняет частицу консерватизма.
Вот что это такое: в Германии официально запрещено говорить «беременная женщина» – только «беременный человек», потому что беременеют многие сменившие пол мужчины. В этом смысле я конечно консерватор и человек православных консервативных взглядов.
Но почему у либералов такая нетерпимость к чужим взглядам? Откуда это берется?
От глубинной раздраженности тем, где они живут. Они не любят Россию просто-напросто, да им и не за что ее любить. Они живут здесь, потому что им не предлагают какого‑то хорошего места, а как только бы предложили – так бы все и уехали.
При этом если их спросить, они скажут, что очень любят Россию…
Они так и думают, но не чувствуют. Как не чувствуют тех вызовов, которые стоят перед нашей родиной. А вместо этого призывают выходить митинговать на площади. Неужели они не понимают, что даже когда еще русский народ был в сравнительной целости, в 1917‑м году, все обрушилось, в феврале. Если сейчас раскачать лодку, такие монстры, такие люмпены выйдут на поверхность, что никому мало не покажется. И как известно, революция не щадит своих детей, и они все побегут, а кто не побежит, того ждет здесь очень плохая участь. Я это понимаю совершенно ясно, потому что всю жизнь занимаюсь отечественной историей, пытаюсь разгадать, почему произошла революция. А в них ничего этого нет – поверхностные люди…
Понимаю, что это огромная тема, но вы можете, с вашим опытом, сформулировать, почему эта беда произошла? Какие тогда главные были причины?
Совокупность причин. А главная – это три года войны, которые подорвали офицерский состав, сильно расшатали общество. И в этот расшат были вброшены немецкие и заокеанские деньги, была заброшена революционная радикальная идеология, и все это дало взрыв. Революция 1917‑го была одна – в феврале, а дальше это был силовой большевистский переворот.
А чем отличаются февральские события от октябрьских?
Февральские события шли под знаком либерализма, а октябрьские, как Ленин и говорил: «мы опираемся напрямую на насилие». Вот в чем большая разница. Закономерно, что за февралем мог последовать или развал страны, или кровавая диктатура. И сейчас, не дай бог, будет так же. Поэтому я сторонник неуклонной медленной эволюции.
То есть главная причина – Первая мировая, и не надо было за сербов вступаться?
Надо было быть аккуратнее.
Вы говорили о своей боли, когда бомбили Белград в 90-ые, что мы не вступились.
Я считаю, надо было удержаться. Уверен, если бы был жив Столыпин, он бы удержал Россию и не дал вступиться. Россия к тому времени еще недостаточно окрепла, вы видите, что в середине XIX века, на царя, как на дикого оленя, охотились в центре столицы и убили. Вроде бы огромная, цветущая страна, но с гигантским террористическим погребом, который взорвался в 1881 году. Александр III попробовал вытянуть, но, к сожалению, умер молодым. Потом Николай был. Он, конечно, замечательный человек, но как правильно говорил Солженицын, что он дважды получил сравнительно здоровую Россию: первый раз первый раз из рук отца, второй – из рук Столыпина. И оба раза спустил эту ситуацию к революции – в 1905 и в 1917 годах.
Здравствуйте!
Скажите, Юрий Михайлович, как вам живется в современной России?
Как сказать… Жизнь человека, его судьба – это сам человек, и как он себя ощущает, так ему и живется. Не скажу, что сейчас я мрачно настроен, хотя прогнозы пессимистичные, но я остаюсь оптимистом. Самое опасное и тяжелое время было – это 90‑е годы, время криминальной революции. Тогда унижение нашей родины я воспринимал очень тяжело, и казалось, что выхода нет. Сейчас это совсем не так. И того кромешного одиночества, как в 90‑е, я уже не чувствую. Или, как говорил Корней Чуковский, в России надо жить долго. Вот надо было мне дожить до 60–70 лет, чтобы я почувствовал себя в своей тарелке.
Вы жили в СССР, потом был период эмиграции. Вернулись в 1990 году первым из наших политических эмигрантов. Дальше были 90-е, «нулевые», и самыми сложными вы называете 90‑е?
Как ни удивительно, но вернувшись на родину именно в 90‑е, я ощущал себя более одиноким, чем в изгнании, настолько вся среда и тогдашняя внутренняя политика были мне чужды. Есть замечательная сцена в «Бесах» у Достоевского, в которой провинциальный революционер Щиголев говорит о будущей революции: «…мы дадим народу право на бесчестие, и тогда все к нам перебегут». В 90‑е я очень ощущал, что дано право на бесчестие. Ведь мы для чего хотели, чтобы советская власть трансформировалась во что‑то, отвечающее традиционным судьбам России? Прежде всего, для повышения морального климата общества. А в 90‑е мы погрузились в такую моральную яму, в которую не входили даже при Советском Союзе. Тогда я ощущал это так.
Кстати, «Бесов» я перечитал в этом году – очень актуально.
Их надо перечитывать каждые пять-шесть лет.
Скажите, положа руку на сердце, вы вернулись первым – не пожалели в какой-то момент?
Нет, конечно. Может, если бы я был технократом, программистом, я бы не вернулся. Я уже пустил там корни – у меня были хорошие условия для жизни, я собрал хорошую библиотеку. Но поэту надо жить одной жизнью со своим языком, со своими читателями, если он хочет оставаться поэтом. Во всяком случае, у меня такое мирочувствование. Были и другие прекрасные поэты, которым родина была не важна, как Иосиф Бродский.
Действительно она ему была неважна?
Абсолютно! Когда я уезжал, спросил у него: «Иосиф, неужели ты не испытываешь даже бабьего любопытства к тому, что там сейчас происходит, после того как в „совке" пошла трещина?!» Он ответил: «Абсолютно неинтересно, мне все известно заранее». И много таких литераторов, которые там себя нашли и хорошо себя чувствуют, но моя поэзия все же больше уходит корнями в родную почву.
Но есть версия, что у Бродского была большая обида, и он хотел приехать, но не признавался в этом.
Ерунда. Не знаю, кто это придумал.
Вернувшись в 1990 году, еще в СССР, вы успели получить советский паспорт?
Нет, я вообще четыре года не мог добиться разрешения на получение паспорта. До 1993 или 1994 года ходил без документов, у меня был эмигрантский паспорт и вид на жительство. И Юрий Карякин (советский и российский литературовед, писатель, публицист, общественный деятель – примеч. ред.), который был тогда на плаву, лично обращался к Горбачеву, Ельцину, чтобы мне вернули гражданство, но всем было наплевать.
В интервью Дмитрию Смирнову вы процитировали хорошую фразу: «беда Москвы в том, что она со всех сторон окружена Россией». Вы много ездите – какая она, Россия, что там за Москвой?
Очень разная. Однозначно не охарактеризуешь. Вот десять дней назад (съемка передачи проходила в 2018 г. – примеч. ред.) мы с друзьями-киношниками рано утром выехали из Рыбинска, ехали через Романов-Борисоглебск, потом через село Курба (названное в честь Дмитрия Курбского) проехали до Ростова Великого и до Переславль-Залесского. Как будто в какой‑то будущей России были: всюду хорошо одетые люди, семейные пары с хорошими колясками. Ни одной мусорной кучи не видели за всю дорогу. Мы были поражены. 12 часов дороги – отличное дорожное покрытие, идеальная Россия, хотя мы ехали отнюдь не центральными дорогами! А иногда нарвешься на такое – будто мессершмитты отбомбились, такие дороги. Особенно много грязи вдоль обочин дорог, где дачные поселки москвичей. Они как свиньи: уезжают после выходных с дачи, все лишнее складывают в мешок, мешок выставляют на дорогу, и потом это растаскивают псы и птицы. А попробуй поехать в сторону Тулы или Поленова – моя супруга правнучка великого художника Поленова – и всюду возле автобусных остановок фрагменты этой экологической катастрофы.
Что хорошо – выходят прекрасные провинциальные журналы – «Рыбная слобода» в Рыбинске, «Угличе-поле» в Угличе – читаешь от корки до корки. Очень качественно сделано. По краеведению постоянные конференции проводятся. Батюшки выполняют свой долг опять же. В моем родном Рыбинске много превосходных приходов, которые живут полноценной жизнью. И когда я слышу на канале «Дождь» или «Эхо Москвы», что все вот-вот закроется и стои́т на грани с пропастью – это совершенно не отвечает моим представлениям.
То есть это пафос, когда люди говорят, что стоит отъехать от Москвы, и жить не захочется!..
Это чепуха! Это все придумки Шендеровича…
Знаю, что вы каждый год бываете в родном Рыбинске. Что это для вас и почему так важно?
Могилы мамы, бабушки. Со знакомым священником ездил к ним на могилы и служил панихиду – вот главная причина.
А помимо этого? Может, это ваше место силы?
К сожалению, Рыбинск понес такие гигантские потери и при коммунистах, и в 90‑е годы, что все там окружающее больше терзает душу. Не осталось деревянной архитектуры стиля модерн – все погибло. На кладбище вырублены все деревья и разрушена вся планировка – я не могу даже найти могилы близких товарищей, которых всегда навещал. Так что в этом смысле Рыбинск уже не может быть таким местом силы, но когда меня туда приглашают – с презентацией книги или на конференцию, я еду. Вот владыка Вениамин проводил конференцию на тему новомучеников нашего Рыбинского уезда – как было не поехать?! Столько людей пострадало, было уничтожено, такие потери в живой силе.
И вы, естественно, почетный гражданин Рыбинска?
Да.
У вас очень интересная родословная. По маминой линии, начиная с XVIII века, – духовное сословие, один из дедов – новомученик. Отец был театральным актером, режиссером, выходец из еврейской семьи. Как вы в себе ощущаете такую смесь культур и разной крови?
Думаю, еврейская частица помогла мне мобилизоваться и не позволила, как большинству моих сверстников, разложиться в богеме и попросту спиться. Все-таки евреи более дисциплинированны, чем русские.
Такой ген выживания…
Вот был поэт огромного таланта – Леня Губанов, но сгорел как метеор. В 90‑е годы были поэты, на которых я возлагал определенные надежды, – Денис Новиков, Борис Рыжий. Тоже сгорели. Мы хоть в противлении коммунизму и атеистической идеологии росли, а тут просто жизнь съела. Руси тяжело и под коммунистами было, и лучшие поэты в 90‑е погибли.
Сталкивались когда-то с антисемитизмом?
Никогда в жизни! Мне кажется, его даже и нет.
А вас обвиняли в антисемитизме?
Конечно! В антисемитизме обвиняли недобросовестные люди Солженицына, а на меня еще в эмиграции, наклеили, как бубнового туза на спину, клеймо – человек Солженицына. И эта клевета отзывалась и на мне. В середине 90‑х вдруг олигархи задумали в Кремле антифашистский конгресс <провести> и попросили у государства денег на это. Что за наглость, когда учителя или врачи падали в голодный обморок, не получая зарплату?! Я резко выступил против такого бесстыдства, и конечно тут был целый вал <возмущений >. Мне вообще трудно пришлось. То, что меня замалчивает критика, обо мне не появилось ни одной серьезной статьи, что меня там, там обходят – я чувствую, что есть негласный заговор либеральной жандармерии, как говорил то ли Аполлон Григорьев, то ли Александр Блок. Я, так сказать, у них на подозрении. Но я живу своей жизнью, «самостоянье человека – залог величия его». Конечно, обидно, ведь я мог сделать для своих современников больше и как публицист, и как поэт, потому что поэзия закаляет душу. Если бы мою поэзию популяризировали так, как они популяризируют свою. Но нет так нет – что поделаешь.
Сама идея либерализма прекрасная: очень человечная, гуманная, но почему‑то, особенно у нас, люди, примкнувшие к либералам, вообще не принимают никаких чужих взглядов, хотя, казалось бы, либерал и должен быть терпимым к иным взглядам…
Большей нетерпимости, чем у либералов, я вообще не встречал. Это какие‑то истовые фанатики. Я сам – кто, если не либерал? Даже так скажу: во мне либеральный консерватизм. Это та же идеология, которая была у зрелого Пушкина в 20‑е годы, у Солженицына, у русских предреволюционных философов. Либерализм – необходимая составляющая мировоззрения любого цивилизованного человека. Это не может быть заменой любви к отечеству и пониманию красоты отечественной культуры и всего того, что они отрицают. Никто не отменял содомского греха и всего, что с ним связано. Слава богу, у нас еще не проводят гей-парады на Красной площади, а могли бы, если бы все развивалось, как было запланировано в 90‑е. Все-таки наша страна при всех «но» сохраняет частицу консерватизма.
Вот что это такое: в Германии официально запрещено говорить «беременная женщина» – только «беременный человек», потому что беременеют многие сменившие пол мужчины. В этом смысле я конечно консерватор и человек православных консервативных взглядов.
Но почему у либералов такая нетерпимость к чужим взглядам? Откуда это берется?
От глубинной раздраженности тем, где они живут. Они не любят Россию просто-напросто, да им и не за что ее любить. Они живут здесь, потому что им не предлагают какого‑то хорошего места, а как только бы предложили – так бы все и уехали.
При этом если их спросить, они скажут, что очень любят Россию…
Они так и думают, но не чувствуют. Как не чувствуют тех вызовов, которые стоят перед нашей родиной. А вместо этого призывают выходить митинговать на площади. Неужели они не понимают, что даже когда еще русский народ был в сравнительной целости, в 1917‑м году, все обрушилось, в феврале. Если сейчас раскачать лодку, такие монстры, такие люмпены выйдут на поверхность, что никому мало не покажется. И как известно, революция не щадит своих детей, и они все побегут, а кто не побежит, того ждет здесь очень плохая участь. Я это понимаю совершенно ясно, потому что всю жизнь занимаюсь отечественной историей, пытаюсь разгадать, почему произошла революция. А в них ничего этого нет – поверхностные люди…
Понимаю, что это огромная тема, но вы можете, с вашим опытом, сформулировать, почему эта беда произошла? Какие тогда главные были причины?
Совокупность причин. А главная – это три года войны, которые подорвали офицерский состав, сильно расшатали общество. И в этот расшат были вброшены немецкие и заокеанские деньги, была заброшена революционная радикальная идеология, и все это дало взрыв. Революция 1917‑го была одна – в феврале, а дальше это был силовой большевистский переворот.
А чем отличаются февральские события от октябрьских?
Февральские события шли под знаком либерализма, а октябрьские, как Ленин и говорил: «мы опираемся напрямую на насилие». Вот в чем большая разница. Закономерно, что за февралем мог последовать или развал страны, или кровавая диктатура. И сейчас, не дай бог, будет так же. Поэтому я сторонник неуклонной медленной эволюции.
То есть главная причина – Первая мировая, и не надо было за сербов вступаться?
Надо было быть аккуратнее.
Вы говорили о своей боли, когда бомбили Белград в 90-ые, что мы не вступились.
Я считаю, надо было удержаться. Уверен, если бы был жив Столыпин, он бы удержал Россию и не дал вступиться. Россия к тому времени еще недостаточно окрепла, вы видите, что в середине XIX века, на царя, как на дикого оленя, охотились в центре столицы и убили. Вроде бы огромная, цветущая страна, но с гигантским террористическим погребом, который взорвался в 1881 году. Александр III попробовал вытянуть, но, к сожалению, умер молодым. Потом Николай был. Он, конечно, замечательный человек, но как правильно говорил Солженицын, что он дважды получил сравнительно здоровую Россию: первый раз первый раз из рук отца, второй – из рук Столыпина. И оба раза спустил эту ситуацию к революции – в 1905 и в 1917 годах.
То есть, не беря его личность и трагическую кончину, как правитель он был так себе?..
Нигде в российских законах не прописано, что у царя есть право на отречение. Он нарушил законы своей страны. Понимаю, что он чувствовал себя в страшном одиночестве… Не судите да не судимы будете, и все искуплено, но его вина очень большая.
То есть отречение и было большой ошибкой?
Я считаю, что да. Это <только> на поверхности была либеральная пена из генералов, а в армии было много здоровых сил. И если бы они почувствовали в Николае стержень, они бы пошли за ним и за него, и можно было за несколько дней задавить этот либеральный бунт в Петербурге.
И заканчивая эту тему, все же: российская империя развалилась или ее развалили?
Я думаю, все-таки развалили.
А Советский Союз?
Это такая пародия, обезьянничанье. Сталин – пародия на царя, Союз – пародия на империю. Потому и просуществовал он всего 70 лет, а империя – несколько столетий.
Но если российскую империю развалили, то Союз – развалился и сгнил сам или ему помогли?
Думаю, это был плод, который сам упал. Конечно, не без добрых помощников. Мы же при советской власти несколько по‑другому представляли Запад, чем он был, да и был он тогда несколько иным: в Германии, Франции и Штатах были значительные политические лидеры. Это сейчас какая‑то пародия! Посмотрите, кто стоит во главе Британии – это же карикатура Хогарта, Трамп – карикатура американская. Не надо быть физиогномистом, чтобы понять, что это – туши свет!
Зато <Трамп> он такой консерватор: за традиционные ценности…
Смешно даже говорить.
Мы заговорили про Европу. 1982 год, вы вынуждены эмигрировать, уезжаете в Вену, и восемь лет живете в Европе. Какой вы застали ее тогда и потом, спустя 12 лет.
Огромная разница: колоссальная деградация, особенно в последние два-три года из‑за «пришельцев», как я их зову. То, что развалили Ближний Восток и хлынули толпы людей, чуждых европейской культуре и навыкам – это та наживка, которую Европа не переварит уже. Европа, над которой плакал Версилов из «Подростков» Достоевского – такой уже не существует, к сожалению.
А в 1982‑м, слава богу, я еще застал остатки традиционной Европы и наверно даже той политики, которая была в лице де Голля и Маргарет Тэтчер. Они были личности, а сейчас – пародии. Макрон – я его «микрон» зову – пародия на де Голля. Дама из Британии (Тереза Мэй – примеч. ред.) – пародия на Тэтчер. Трамп – пародия на Эйзенхауэра. Это злые пародии.
В своих интервью вы делаете весьма пессимистичные прогнозы, что Европа этого не переварит…
Нет, не хватит сил.
«Закат Европы» Шпенглер написал более ста лет назад…
Но и Евгений Боратынский почти 200 лет назад написал стихотворение «Последний поэт» о гибели поэта, но это не мешает ему быть пророческим, и я под ним сейчас подпишусь! Они оба просто опередили ситуацию.
Европа не раз переживала нашествие варваров и справлялась. Может быть, новое нашествие породит новую культуру?
Я в это не верю, потому что вообще не верю в новую культуру. Я не верю, что технотронную культуру с ее гаджетами можно сопоставить с христианством. Для меня культура – это то, что имеет христианские корни. Сейчас все искусство и литература атеистичны – для меня это говорит о полной деградации культуры и цивилизации. Это уже пост-постхристианская цивилизация.
Что же у нас остается из христианских оплотов? Америка очень религиозная страна, Южная Америка, – или они тоже постхристианские?..
Если уже разрешены однополые браки, о каком христианстве можно говорить? Южная Америка давно под пятой Штатов. Отдельные очаги сопротивления еще есть, но они мизерные по сравнению с общим закатом.
Какая‑то надежда все же остается?
Я не пессимист по жизни. В 17 лет я понял, что Господь наградил меня поэтическим дарованием. Сейчас мне 71 год. Я это дарование реализовал, как мог: никогда не проституировал и не лгал в этом смысле. И вот ощущение удовлетворения от того, что я сделал и не извратил этот дар, и дает личный оптимизм, который никак не связан с происходящим в мире.
Для верующего человека конец света не страшен, потому что новое небо и новая земля?..
Я про это не думаю. Я не настолько умен, чтобы утешаться этим, и не настолько верующий.
Вы всегда называли себя нонконформистом, ни прежде, ни сейчас не шли на компромиссы. Вы довольно хорошо отзываетесь о внешней политике Путина. Многие считают это вашим конформизмом. Что вы на это отвечаете?
И отвечать не на что. Я не понимаю, как русские литераторы не могут чувствовать Крым частью нашей культуры! Как они могут?! Если бы Украина была нейтральной страной, а не американским протекторатом, если бы в их планы не входила насильственная украинизация, никто бы ничего и не говорил. Жили бы дружно, и на основании федерации эти земли были бы на Украине. Но Америка открыла пасть, и Украина туда прыгнула. И конечно русским людям нечего делать на такой Украине. Так называемые либералы хотят насильно украинизировать миллионы русских, проживающих там, но это невозможно. Для меня один из счастливых моментов был, когда я узнал, что Крым наконец освободился от киевской пятки. Все, что я говорил и говорю, абсолютно отвечает моему политическому темпераменту. Все мы разные, и у меня другое мировоззрение, чем у Левы Рубинштейна, это нормально, у нас и стихи совсем разные.
Почему так всегда было у русских людей: если два прекрасных интеллигентных человека расходятся во взглядах, то они даже руки перестают пожимать друг другу?
У меня этого нет, но первым бросаться и делать вид, что ничего не произошло, я тоже не буду, у меня есть чувство собственного достоинства. Мне очень больно, что многие люди, с которыми я дружил по 40 лет, порвали со мной отношения. Для меня это рана. Но у меня нет к ним никакой агрессии. Они для себя сделали хуже: такие люди как я на дороге не валяются. И мы могли в дружбе рука об руку дойти до смертной черты, несмотря на разницу наших представлений о том же Крыме. Но они не захотели, и это уже их проблемы.
То есть, «Платон мне друг, но истина дороже»?
Конечно.
Вот вы – контрреволюционер, противник революции, и были им с молодости. Вы хотели тогда свергнуть советскую власть революционным путем?
Революционным – нет, в этом смысле я был умереннее Солженицына. Во многом потому, что много читал зрелого Пушкина и русских философов – Франка, Бердяева. «Вехи» и сборник «Из глубины» – это катехизис новой почвенной интеллигенции, они текут у меня по жилам. Поэтому я не могу быть сторонником революции. Это надо быть Эдичкой Лимоновым или Захаром Прилепиным, чтобы хотеть революции. Они не просчитывают на два-три шага вперед, а я просчитываю. Конечно, все это формировалось постепенно – под впечатлением самиздатовского Солженицына, его публицистики, его интервью еще до высылки. Я все время искал ответы на разные вопросы. В стихах, <написанных> уже в эмиграции, я видел глупую либеральную симпатию самостийникам Западной Украины. Эдакое подмахивание еврейской карте, хотя она не нуждается в этом. Все это было, но органично изживалось с возрастом.
Отдельное спасибо вам за ваше выступление на проекте «Имя России». Вам не жалко, что тогда победил не Пушкин? Думали вообще, что он может победить?
Так он и победил, когда голосование было среди нас! А что вышло на самом деле – это не было народным волеизъявлением, это все подтасовка. Тут дело не в Пушкине, а в том, что новый патриарх должен был занять это первое место. Внешне голосовали только те, кто представлял нужных людей. Я не расстроился из‑за подтасовки, а просто лишний раз вспомнил, who is who.
Диссидентское движение было во многом романтичным, люди ненавидели Советский Союз, боролись с ним. Вот Союз рухнул, и вдруг очень многие стали по этому же Союзу тосковать. Почему это произошло с людьми, и произошло ли это с вами?
А кто стал тосковать? Дима Быков и Захар Прилепин? Так они и не нюхали советской власти. Если бы их поселили на недельку в середину 70‑х годов, они бы на четвереньках побежали сюда! Это все болтовня, на которую сердиться бесполезно, потому что они не знали, как это было – жить при советской власти. С ее стукачеством и страшным дефицитом. Все время ты жил в какой‑то серятине и напряжении, не знал, что делать как литератору: здесь печататься – невозможно, отправлять <печатать> на Запад, как со мной поступили, – придется уезжать. А из тех, кто диссидентствовал – Александр Зиновьев, например, он чуть ли не в сталиниста превратился. Это Достоевский еще сказал – широк русский человек, надо бы сузить.
Может, это такой эффект памяти, когда люди, например, из армии возвращаются и помнят только хорошее.
Да‑да, чудовищно служили в армии, все проклинали, а потом всю жизнь вспоминают ностальгически – это тоже людям свойственно. Но во мне такого нет.
Возвращаясь к провинции. Россия – страна столично-центрированная. Может ли сегодня человек, не переезжая из провинции в Москву и Питер, состояться в литературе?
Не переезжая, может, но чтобы дойти до читателя, он все равно должен быть связан со столичными издательствами. Вообще книжное кровообращение абсолютно разрушено: мои книги и по Москве‑то не доходят – лежат на складе <издательства>, потому что у них нет денег на бензин, чтобы развести по книготорговцам. Приходишь на ярмарку: сколько книг! На прилавках <магазинов> точечно лежат, и попробуй их отыщи. А до провинции и вовсе ничего не доходит, и книжных магазинов там с гулькин нос.
Если человек застаивается в провинции, конечно, он должен выходить на столичный рынок и пользоваться услугами столичных издателей и критиков, что очень непросто, потому что критики обслуживают своих. Доходит до невероятного: года два-три назад появился в двух номерах «Нового мира» обширный обзор современной поэзии. Вроде сделано культурным человеком – Ириной Роднянской. Но вы не поверите: моя фамилия не упомянута там вовсе, меня там нет. Вот что это? Либеральная жандармерия в действии. И это я не в провинции живу, а здесь <в столице>, на виду.
А есть надежды, что из провинции придет что‑то настоящее, светлое – и в литературу, и в жизнь страны?
Душевно, конечно, там люди почище. Но то, что там появится Иван-царевич от литературы – мне так не кажется.
Мне кажется, у вас всегда было желание сбежать из Москвы. Вот вы, когда отучились, уехали работать на Соловки.
Здесь бы я просто спился! Замотался бы в этой богемной среде. Я на уровне подкорки почувствовал, что надо формировать мировоззрение, что поэт это не просто птичка, которая на ветке поет, а необходимо мировоззрение, мирочувствование и понимание бытия. В Москве – в той каше и круговороте своей компании, в котором я оказался, – этого было не добиться. На Соловках я закалился и вернулся оттуда другим человеком: и как мужик, и как человек, понимающий историю (там книги были хорошие), и как человек, понявший, что такое зверства сталинской власти. Мне было тогда 23–24 года.
Нигде в российских законах не прописано, что у царя есть право на отречение. Он нарушил законы своей страны. Понимаю, что он чувствовал себя в страшном одиночестве… Не судите да не судимы будете, и все искуплено, но его вина очень большая.
То есть отречение и было большой ошибкой?
Я считаю, что да. Это <только> на поверхности была либеральная пена из генералов, а в армии было много здоровых сил. И если бы они почувствовали в Николае стержень, они бы пошли за ним и за него, и можно было за несколько дней задавить этот либеральный бунт в Петербурге.
И заканчивая эту тему, все же: российская империя развалилась или ее развалили?
Я думаю, все-таки развалили.
А Советский Союз?
Это такая пародия, обезьянничанье. Сталин – пародия на царя, Союз – пародия на империю. Потому и просуществовал он всего 70 лет, а империя – несколько столетий.
Но если российскую империю развалили, то Союз – развалился и сгнил сам или ему помогли?
Думаю, это был плод, который сам упал. Конечно, не без добрых помощников. Мы же при советской власти несколько по‑другому представляли Запад, чем он был, да и был он тогда несколько иным: в Германии, Франции и Штатах были значительные политические лидеры. Это сейчас какая‑то пародия! Посмотрите, кто стоит во главе Британии – это же карикатура Хогарта, Трамп – карикатура американская. Не надо быть физиогномистом, чтобы понять, что это – туши свет!
Зато <Трамп> он такой консерватор: за традиционные ценности…
Смешно даже говорить.
Мы заговорили про Европу. 1982 год, вы вынуждены эмигрировать, уезжаете в Вену, и восемь лет живете в Европе. Какой вы застали ее тогда и потом, спустя 12 лет.
Огромная разница: колоссальная деградация, особенно в последние два-три года из‑за «пришельцев», как я их зову. То, что развалили Ближний Восток и хлынули толпы людей, чуждых европейской культуре и навыкам – это та наживка, которую Европа не переварит уже. Европа, над которой плакал Версилов из «Подростков» Достоевского – такой уже не существует, к сожалению.
А в 1982‑м, слава богу, я еще застал остатки традиционной Европы и наверно даже той политики, которая была в лице де Голля и Маргарет Тэтчер. Они были личности, а сейчас – пародии. Макрон – я его «микрон» зову – пародия на де Голля. Дама из Британии (Тереза Мэй – примеч. ред.) – пародия на Тэтчер. Трамп – пародия на Эйзенхауэра. Это злые пародии.
В своих интервью вы делаете весьма пессимистичные прогнозы, что Европа этого не переварит…
Нет, не хватит сил.
«Закат Европы» Шпенглер написал более ста лет назад…
Но и Евгений Боратынский почти 200 лет назад написал стихотворение «Последний поэт» о гибели поэта, но это не мешает ему быть пророческим, и я под ним сейчас подпишусь! Они оба просто опередили ситуацию.
Европа не раз переживала нашествие варваров и справлялась. Может быть, новое нашествие породит новую культуру?
Я в это не верю, потому что вообще не верю в новую культуру. Я не верю, что технотронную культуру с ее гаджетами можно сопоставить с христианством. Для меня культура – это то, что имеет христианские корни. Сейчас все искусство и литература атеистичны – для меня это говорит о полной деградации культуры и цивилизации. Это уже пост-постхристианская цивилизация.
Что же у нас остается из христианских оплотов? Америка очень религиозная страна, Южная Америка, – или они тоже постхристианские?..
Если уже разрешены однополые браки, о каком христианстве можно говорить? Южная Америка давно под пятой Штатов. Отдельные очаги сопротивления еще есть, но они мизерные по сравнению с общим закатом.
Какая‑то надежда все же остается?
Я не пессимист по жизни. В 17 лет я понял, что Господь наградил меня поэтическим дарованием. Сейчас мне 71 год. Я это дарование реализовал, как мог: никогда не проституировал и не лгал в этом смысле. И вот ощущение удовлетворения от того, что я сделал и не извратил этот дар, и дает личный оптимизм, который никак не связан с происходящим в мире.
Для верующего человека конец света не страшен, потому что новое небо и новая земля?..
Я про это не думаю. Я не настолько умен, чтобы утешаться этим, и не настолько верующий.
Вы всегда называли себя нонконформистом, ни прежде, ни сейчас не шли на компромиссы. Вы довольно хорошо отзываетесь о внешней политике Путина. Многие считают это вашим конформизмом. Что вы на это отвечаете?
И отвечать не на что. Я не понимаю, как русские литераторы не могут чувствовать Крым частью нашей культуры! Как они могут?! Если бы Украина была нейтральной страной, а не американским протекторатом, если бы в их планы не входила насильственная украинизация, никто бы ничего и не говорил. Жили бы дружно, и на основании федерации эти земли были бы на Украине. Но Америка открыла пасть, и Украина туда прыгнула. И конечно русским людям нечего делать на такой Украине. Так называемые либералы хотят насильно украинизировать миллионы русских, проживающих там, но это невозможно. Для меня один из счастливых моментов был, когда я узнал, что Крым наконец освободился от киевской пятки. Все, что я говорил и говорю, абсолютно отвечает моему политическому темпераменту. Все мы разные, и у меня другое мировоззрение, чем у Левы Рубинштейна, это нормально, у нас и стихи совсем разные.
Почему так всегда было у русских людей: если два прекрасных интеллигентных человека расходятся во взглядах, то они даже руки перестают пожимать друг другу?
У меня этого нет, но первым бросаться и делать вид, что ничего не произошло, я тоже не буду, у меня есть чувство собственного достоинства. Мне очень больно, что многие люди, с которыми я дружил по 40 лет, порвали со мной отношения. Для меня это рана. Но у меня нет к ним никакой агрессии. Они для себя сделали хуже: такие люди как я на дороге не валяются. И мы могли в дружбе рука об руку дойти до смертной черты, несмотря на разницу наших представлений о том же Крыме. Но они не захотели, и это уже их проблемы.
То есть, «Платон мне друг, но истина дороже»?
Конечно.
Вот вы – контрреволюционер, противник революции, и были им с молодости. Вы хотели тогда свергнуть советскую власть революционным путем?
Революционным – нет, в этом смысле я был умереннее Солженицына. Во многом потому, что много читал зрелого Пушкина и русских философов – Франка, Бердяева. «Вехи» и сборник «Из глубины» – это катехизис новой почвенной интеллигенции, они текут у меня по жилам. Поэтому я не могу быть сторонником революции. Это надо быть Эдичкой Лимоновым или Захаром Прилепиным, чтобы хотеть революции. Они не просчитывают на два-три шага вперед, а я просчитываю. Конечно, все это формировалось постепенно – под впечатлением самиздатовского Солженицына, его публицистики, его интервью еще до высылки. Я все время искал ответы на разные вопросы. В стихах, <написанных> уже в эмиграции, я видел глупую либеральную симпатию самостийникам Западной Украины. Эдакое подмахивание еврейской карте, хотя она не нуждается в этом. Все это было, но органично изживалось с возрастом.
Отдельное спасибо вам за ваше выступление на проекте «Имя России». Вам не жалко, что тогда победил не Пушкин? Думали вообще, что он может победить?
Так он и победил, когда голосование было среди нас! А что вышло на самом деле – это не было народным волеизъявлением, это все подтасовка. Тут дело не в Пушкине, а в том, что новый патриарх должен был занять это первое место. Внешне голосовали только те, кто представлял нужных людей. Я не расстроился из‑за подтасовки, а просто лишний раз вспомнил, who is who.
Диссидентское движение было во многом романтичным, люди ненавидели Советский Союз, боролись с ним. Вот Союз рухнул, и вдруг очень многие стали по этому же Союзу тосковать. Почему это произошло с людьми, и произошло ли это с вами?
А кто стал тосковать? Дима Быков и Захар Прилепин? Так они и не нюхали советской власти. Если бы их поселили на недельку в середину 70‑х годов, они бы на четвереньках побежали сюда! Это все болтовня, на которую сердиться бесполезно, потому что они не знали, как это было – жить при советской власти. С ее стукачеством и страшным дефицитом. Все время ты жил в какой‑то серятине и напряжении, не знал, что делать как литератору: здесь печататься – невозможно, отправлять <печатать> на Запад, как со мной поступили, – придется уезжать. А из тех, кто диссидентствовал – Александр Зиновьев, например, он чуть ли не в сталиниста превратился. Это Достоевский еще сказал – широк русский человек, надо бы сузить.
Может, это такой эффект памяти, когда люди, например, из армии возвращаются и помнят только хорошее.
Да‑да, чудовищно служили в армии, все проклинали, а потом всю жизнь вспоминают ностальгически – это тоже людям свойственно. Но во мне такого нет.
Возвращаясь к провинции. Россия – страна столично-центрированная. Может ли сегодня человек, не переезжая из провинции в Москву и Питер, состояться в литературе?
Не переезжая, может, но чтобы дойти до читателя, он все равно должен быть связан со столичными издательствами. Вообще книжное кровообращение абсолютно разрушено: мои книги и по Москве‑то не доходят – лежат на складе <издательства>, потому что у них нет денег на бензин, чтобы развести по книготорговцам. Приходишь на ярмарку: сколько книг! На прилавках <магазинов> точечно лежат, и попробуй их отыщи. А до провинции и вовсе ничего не доходит, и книжных магазинов там с гулькин нос.
Если человек застаивается в провинции, конечно, он должен выходить на столичный рынок и пользоваться услугами столичных издателей и критиков, что очень непросто, потому что критики обслуживают своих. Доходит до невероятного: года два-три назад появился в двух номерах «Нового мира» обширный обзор современной поэзии. Вроде сделано культурным человеком – Ириной Роднянской. Но вы не поверите: моя фамилия не упомянута там вовсе, меня там нет. Вот что это? Либеральная жандармерия в действии. И это я не в провинции живу, а здесь <в столице>, на виду.
А есть надежды, что из провинции придет что‑то настоящее, светлое – и в литературу, и в жизнь страны?
Душевно, конечно, там люди почище. Но то, что там появится Иван-царевич от литературы – мне так не кажется.
Мне кажется, у вас всегда было желание сбежать из Москвы. Вот вы, когда отучились, уехали работать на Соловки.
Здесь бы я просто спился! Замотался бы в этой богемной среде. Я на уровне подкорки почувствовал, что надо формировать мировоззрение, что поэт это не просто птичка, которая на ветке поет, а необходимо мировоззрение, мирочувствование и понимание бытия. В Москве – в той каше и круговороте своей компании, в котором я оказался, – этого было не добиться. На Соловках я закалился и вернулся оттуда другим человеком: и как мужик, и как человек, понимающий историю (там книги были хорошие), и как человек, понявший, что такое зверства сталинской власти. Мне было тогда 23–24 года.
Правда, что вы жили в келье, в которой сидел Дмитрий Лихачев?
Да, кто‑то из местных мне говорил это. Причем, с ним сидело там 30 человек, а в этой келье не было даже стекла зимой, и размеры – минимальные.
Что вы там застали? Это был лагерь, из которого вчера ушли?..
Да, решетки, глазки́, нары, особенно в отдаленных скитах и на острове Анзер. Даже надписи на стенах – имена тех, кто должен был на следующее утро быть казнен. Страшная картина. Но я не еду теперь на Соловки, когда это вообще уничтожено, как будто эта страница перевернута и ничего не было.
Да, вот этого очень жаль.
Даже эта лестница знаменитая на Секирке (Секирная гора – примеч. ред.), ее нет, заменили на евроремонт. Норвежцы подарили какую‑то новую лесенку чуть ли не из карельской березы – зачем это? Ничего не оставили!
Почему у немцев есть чувство вины, которое они сохраняют и даже культивируют, а мы боимся?
Другая была политика после войны. Ведь как только убрали Хрущева, стало запрещено говорить о репрессиях. Если издавали книгу того, кто погиб в лагере или был расстрелян – об этом было запрещено писать. Этого даже не стыдились, а боялись, и было запрещено. И за 20–30 лет людей отучили помнить о Жертве с большой буквы, понимать размах катастрофы. Солженицын думал что «Архипелагом Гулаг» вернет все это, но это объемная тяжелая книга, которую далеко не каждый прочтет. В этом смысле в 90‑е, хоть я и ругаю их, говорили больше, и память о жертвах была объемнее.
Правильно я понимаю, что мы с этой своей бедой так и не разобрались?
Конечно, как тут еще скажешь.
А сейчас же происходит виток не просто умалчивания, а оправдывания…
Я называю это неосоветизм. Не знаю, насколько сверху и от каких идеологов это идет. Вот Путин же был на открытии памятника жертвам репрессий – хорошо, это все-таки поступок. С другой стороны, сплошь и рядом говорят, что Берия был эффективным менеджером и так далее. Это очень неприятно, очень. Я сейчас перестал даже ходить на телевидение. А как пойдешь: промолчать, когда они несут эту пургу, – совестно, а выступить – тебя просто затопчут.
Я нескольким своим друзьям говорил, что буду встречаться с вами, и узнавал, что бы они спросили у вас. И несколько человек спрашивали: зачем он ходит к Соловьеву?
Вот я ходил только потому, чтобы высказать свое отношение к Крыму и Донбассу, чтобы в провинции, которая смотрит, не думали, что все столичные литераторы – предатели.
Захар Прилепин издал роман о Соловках – «Обитель», и получил за нее премию «Большая книга». Вы читали этот роман?
Нет, к сожалению. Я начал читать, но автор – человек из другого поколения, и он совершенно по‑другому смотрит на трагедию Соловецкого концлагеря. И мне было тяжело это читать, потому что написано больше по касательной…
Причем ведь Захар не глупый человек… Откуда это?..
Да, именно! И у него есть поэтический слух, что большая редкость кстати. Откуда… от атеизма, от недопонимания, что такое большевики.
Но он называет себя верующим человеком…
Я поражаюсь этому: он не пропустил через сердце этих жертв! Был замечательный поэт Семен Липкин, у него были прекрасные стихи:
Можно забыть очертания букв
полустертых,
Можно и море забыть и, забыв,
разлюбить,
Можно забыть и живущих, но мертвых, но
мертвых
Можно ль забыть?
Вот это мое чувство – забыть эти несметные жертвы я не могу никак! Они текут у меня в крови, и это было главное, из‑за чего мне было невозможно жить при советской власти. И прошлый <2017> год с его неуклюжей попыткой адаптировать коммунистические и сталинские средства к русской истории, ничего не прояснил в ситуации, а сделал ее еще уродливее.
Возвращаясь к теме вашей эмиграции. Андрей Синявский говорил: «…мои расхождения с советской властью чисто стилистические». А какие ваши были расхождения?
Прежде всего, религиозные. И то, что я не мог смириться, что надо забыть о Жертве с большой буквы. Не мог.
А ваше знаменитое открытое «Письмо ко всем нам», приуроченное к двухлетию высылки Солженицына, – вы понимали, на что идете, думали о последствиях?
Несколько моих друзей, когда высылали Александра Исаевича, написали письма в его поддержку. Меня не было в Москве, я был как раз на Севере, и когда вернулся, то чувствовал некий дискомфорт, встречаясь с товарищами: они выступили в поддержку Александра Исаевича, а я нет. И это был мой продуманный поступок. Я почувствовал, что мне это внутренне необходимо даже для того, чтобы дальше писать стихи – нужна честность. А как бы я жил с чувством, что я промолчал, когда выслали писателя, которого я люблю, и мыслителя, который мне дорог. Вот это было для меня главное.
Тема совести. Есть же образы поэтов такие: у него есть дар, и он может и делает все что хочет, и этот дар так с ним и живет. У вас, я так понимаю, совсем другая история…
Я не могу читать стихи того, кого я считаю дрянью. Не могу, для меня это все взаимосвязано. Я абсолютно уверен, что бескорыстное морально-общественное служение необходимо поэту, как, вспоминая Козьму Пруткова, канифоль смычку виртуоза.
И после этого «Письма» вы лишаетесь работы и идете на знаменитые работы диссидентов и интеллигенции: сторож, дворник. У вас это было в храмах, да?
Я поначалу еще попробовал в государственных учреждениях, но потом меня туда перестали приглашать. А в храмах, несмотря на то, что все было в ведении стукачества, настоятели или старосты меня брали. А больше негде было работать. Церковь тогда была очень подневольная, и я рад, что мне удалось узнать изнанку повседневной жизни тогдашней православной церкви. Сейчас это, безусловно, небо и земля.
Что, действительно все священники сотрудничали с КГБ?
Священники нет, но старосты – да. Кто‑то же должен был присматривать за приходом…
При этом тогда в церквях пусть было и мало людей, зато какие!
Это да. Но учитывайте, что так было только в больших городах, ведь в провинции каждый человек на виду. Уже в 70‑е годы я проходил по делу своего товарища в Архангельске, которому инкриминировалось прослушивание Галича и Высоцкого у него дома, и за это он получил шесть лет. То есть в столице и провинции было совершенно по‑разному.
Конечно, интеллигенция пошла в церковь, видя альтернативу советской безрадостной жизни. И были священники, которые отзывались именно на такой запрос интеллигенции. Даже и Дудко, пока его не сломали…
…Да, это большая трагедия.
Да… Помню, мы с другом выпивали весь день на Москве-реке, вечером пришли к моей подружке продолжать. Она встретила нас и прижала палец к губам, чтобы мы не разговаривали. Мы прошли в комнату, и по телевизору увидели, как отец Дмитрий сидит в пиджаке и галстуке… Боже, что я тогда испытал! Весь хмель вышел! Кровь бросилась в лицо, всё!.. Всё, жить больше не стоит…
Напомню нашим телезрителям: это был известный священник отец Дмитрий Дудко, человек, который сидел в лагере, и вел очень активную деятельность, но был сломлен властью. А вы, Юрий Михайлович, после этого прекратили с ним общение?
Да. После этого мы уже не встречались.
Совесть вас не мучает из-за этого?
Мне понятно, почему так было. Сейчас у меня нет к нему никаких претензий, потому что я понимаю: слаб человек. Сломали его, сыграв на его патриотических качествах, и это – помимо физических испытаний. Но в тот момент это был удар по лицу.
Да, кто‑то из местных мне говорил это. Причем, с ним сидело там 30 человек, а в этой келье не было даже стекла зимой, и размеры – минимальные.
Что вы там застали? Это был лагерь, из которого вчера ушли?..
Да, решетки, глазки́, нары, особенно в отдаленных скитах и на острове Анзер. Даже надписи на стенах – имена тех, кто должен был на следующее утро быть казнен. Страшная картина. Но я не еду теперь на Соловки, когда это вообще уничтожено, как будто эта страница перевернута и ничего не было.
Да, вот этого очень жаль.
Даже эта лестница знаменитая на Секирке (Секирная гора – примеч. ред.), ее нет, заменили на евроремонт. Норвежцы подарили какую‑то новую лесенку чуть ли не из карельской березы – зачем это? Ничего не оставили!
Почему у немцев есть чувство вины, которое они сохраняют и даже культивируют, а мы боимся?
Другая была политика после войны. Ведь как только убрали Хрущева, стало запрещено говорить о репрессиях. Если издавали книгу того, кто погиб в лагере или был расстрелян – об этом было запрещено писать. Этого даже не стыдились, а боялись, и было запрещено. И за 20–30 лет людей отучили помнить о Жертве с большой буквы, понимать размах катастрофы. Солженицын думал что «Архипелагом Гулаг» вернет все это, но это объемная тяжелая книга, которую далеко не каждый прочтет. В этом смысле в 90‑е, хоть я и ругаю их, говорили больше, и память о жертвах была объемнее.
Правильно я понимаю, что мы с этой своей бедой так и не разобрались?
Конечно, как тут еще скажешь.
А сейчас же происходит виток не просто умалчивания, а оправдывания…
Я называю это неосоветизм. Не знаю, насколько сверху и от каких идеологов это идет. Вот Путин же был на открытии памятника жертвам репрессий – хорошо, это все-таки поступок. С другой стороны, сплошь и рядом говорят, что Берия был эффективным менеджером и так далее. Это очень неприятно, очень. Я сейчас перестал даже ходить на телевидение. А как пойдешь: промолчать, когда они несут эту пургу, – совестно, а выступить – тебя просто затопчут.
Я нескольким своим друзьям говорил, что буду встречаться с вами, и узнавал, что бы они спросили у вас. И несколько человек спрашивали: зачем он ходит к Соловьеву?
Вот я ходил только потому, чтобы высказать свое отношение к Крыму и Донбассу, чтобы в провинции, которая смотрит, не думали, что все столичные литераторы – предатели.
Захар Прилепин издал роман о Соловках – «Обитель», и получил за нее премию «Большая книга». Вы читали этот роман?
Нет, к сожалению. Я начал читать, но автор – человек из другого поколения, и он совершенно по‑другому смотрит на трагедию Соловецкого концлагеря. И мне было тяжело это читать, потому что написано больше по касательной…
Причем ведь Захар не глупый человек… Откуда это?..
Да, именно! И у него есть поэтический слух, что большая редкость кстати. Откуда… от атеизма, от недопонимания, что такое большевики.
Но он называет себя верующим человеком…
Я поражаюсь этому: он не пропустил через сердце этих жертв! Был замечательный поэт Семен Липкин, у него были прекрасные стихи:
Можно забыть очертания букв
полустертых,
Можно и море забыть и, забыв,
разлюбить,
Можно забыть и живущих, но мертвых, но
мертвых
Можно ль забыть?
Вот это мое чувство – забыть эти несметные жертвы я не могу никак! Они текут у меня в крови, и это было главное, из‑за чего мне было невозможно жить при советской власти. И прошлый <2017> год с его неуклюжей попыткой адаптировать коммунистические и сталинские средства к русской истории, ничего не прояснил в ситуации, а сделал ее еще уродливее.
Возвращаясь к теме вашей эмиграции. Андрей Синявский говорил: «…мои расхождения с советской властью чисто стилистические». А какие ваши были расхождения?
Прежде всего, религиозные. И то, что я не мог смириться, что надо забыть о Жертве с большой буквы. Не мог.
А ваше знаменитое открытое «Письмо ко всем нам», приуроченное к двухлетию высылки Солженицына, – вы понимали, на что идете, думали о последствиях?
Несколько моих друзей, когда высылали Александра Исаевича, написали письма в его поддержку. Меня не было в Москве, я был как раз на Севере, и когда вернулся, то чувствовал некий дискомфорт, встречаясь с товарищами: они выступили в поддержку Александра Исаевича, а я нет. И это был мой продуманный поступок. Я почувствовал, что мне это внутренне необходимо даже для того, чтобы дальше писать стихи – нужна честность. А как бы я жил с чувством, что я промолчал, когда выслали писателя, которого я люблю, и мыслителя, который мне дорог. Вот это было для меня главное.
Тема совести. Есть же образы поэтов такие: у него есть дар, и он может и делает все что хочет, и этот дар так с ним и живет. У вас, я так понимаю, совсем другая история…
Я не могу читать стихи того, кого я считаю дрянью. Не могу, для меня это все взаимосвязано. Я абсолютно уверен, что бескорыстное морально-общественное служение необходимо поэту, как, вспоминая Козьму Пруткова, канифоль смычку виртуоза.
И после этого «Письма» вы лишаетесь работы и идете на знаменитые работы диссидентов и интеллигенции: сторож, дворник. У вас это было в храмах, да?
Я поначалу еще попробовал в государственных учреждениях, но потом меня туда перестали приглашать. А в храмах, несмотря на то, что все было в ведении стукачества, настоятели или старосты меня брали. А больше негде было работать. Церковь тогда была очень подневольная, и я рад, что мне удалось узнать изнанку повседневной жизни тогдашней православной церкви. Сейчас это, безусловно, небо и земля.
Что, действительно все священники сотрудничали с КГБ?
Священники нет, но старосты – да. Кто‑то же должен был присматривать за приходом…
При этом тогда в церквях пусть было и мало людей, зато какие!
Это да. Но учитывайте, что так было только в больших городах, ведь в провинции каждый человек на виду. Уже в 70‑е годы я проходил по делу своего товарища в Архангельске, которому инкриминировалось прослушивание Галича и Высоцкого у него дома, и за это он получил шесть лет. То есть в столице и провинции было совершенно по‑разному.
Конечно, интеллигенция пошла в церковь, видя альтернативу советской безрадостной жизни. И были священники, которые отзывались именно на такой запрос интеллигенции. Даже и Дудко, пока его не сломали…
…Да, это большая трагедия.
Да… Помню, мы с другом выпивали весь день на Москве-реке, вечером пришли к моей подружке продолжать. Она встретила нас и прижала палец к губам, чтобы мы не разговаривали. Мы прошли в комнату, и по телевизору увидели, как отец Дмитрий сидит в пиджаке и галстуке… Боже, что я тогда испытал! Весь хмель вышел! Кровь бросилась в лицо, всё!.. Всё, жить больше не стоит…
Напомню нашим телезрителям: это был известный священник отец Дмитрий Дудко, человек, который сидел в лагере, и вел очень активную деятельность, но был сломлен властью. А вы, Юрий Михайлович, после этого прекратили с ним общение?
Да. После этого мы уже не встречались.
Совесть вас не мучает из-за этого?
Мне понятно, почему так было. Сейчас у меня нет к нему никаких претензий, потому что я понимаю: слаб человек. Сломали его, сыграв на его патриотических качествах, и это – помимо физических испытаний. Но в тот момент это был удар по лицу.
Вам вообще повезло с людьми, с которыми вы общались, но и им тоже повезло с вами. Не могу не задать этот вопрос – про отца Александра Меня: в чем была его притягательность? Ведь много было других священников, но именно он стал символом эпохи и самым известным священником. В чем была его сила?
В нем чувствовалась связь с репрессированными священниками, например, с отцом Павлом Флоренским. Какая‑то незримая связь. Он боялся меньше, чем большинство его коллег. Я знал, что он не сдаст, что с ним в этом смысле можно говорить о чем угодно. И очень важна была среда.
Конечно, это особая страница – поездки к нему в Новую деревню, Пасхи, которые он проводил, как мы в электричках разговлялись… Это было удивительное единение. Потом судьба нас всех раскидала совершенно по‑разному, люди мы были все тоже разные. Но там было ощущение солидарности, соборности, общинности!..
Как думаете, мы когда-нибудь узнаем тайну его убийства?
Я ни в коем случае не считаю, что «органы» его убили – не то было время. Думаю, это была бытовая криминальная разборка или какой‑то шизофреник… Вокруг священников много бесноватых клубится. Думаю, убийство отца Александра Меня – того же рода.
Про КГБ и допросы: расскажите, много ли было допросов, как общались тогда следователи, как проходили допросы?
Как всегда: добрый и злой следователь. Не во время одного даже допроса, а на разных каждый был в своем амплуа. Брали подписку о неразглашении, но я шел к Феликсу Светову (русский писатель, диссидент – примеч. ред.), зная, что у него стоит прослушка, и тут же разглашал. Мне на это потом говорили: «Юрий Михайлович, с вами нельзя иметь дело, вот же ваша подпись <на расписке>». Я отвечаю: «Когда я подписываю, я уверен, что не буду <разглашать>, но стоит выпить рюмку – меня несет. Не надо мне доверять то, о чем говорить нельзя, я за себя не отвечаю». Дурачка из себя строил (смеется).
А злые следователи как себя вели?
Злой пугал, что лагерь неизбежен. Так получилось, что я стал самым молодым публикующимся в «тамиздате» самиздатчиком – в «Вестнике русского христианского движения», «Континенте», «Гранях». Им надо было со мной что‑то делать, чтобы другие не пошли по моим стопам, а то «другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь».
Однажды привезли среди ночи на Лубянку, я думал, что это уже арест. А они говорят, что это еще не арест. У меня аж сердце упало: что же такое и зачем таскать среди ночи? Я вот думаю, чем черт не шутит, может, мое дело среди других просматривал Андропов? Он же учился в Рыбинске, в речном училище, где много позже преподавала моя мать, и он сам писал стихи. И вполне мог отнестись ко мне как к земляку, мол, на Запад пошлем его, и пусть там загибается, если ему это так нравится, чего его сажать… Мне так и сказали: «Мы из вас делать нового Гумилева не будем».
И последней каплей была издание вашей книги Бродским в Штатах, да? И до этого вы с Бродским знакомы не были. Какое у вас первое впечатление о Бродском было?
Меня резануло, что он вел себя недостаточно независимо по отношению к шестидесятникам.
Вхожу я как‑то во дворик МГУ, там сидит на ступеньках под памятником Ломоносову Евтушенко, и рядом – какой‑то рыжий. К Евтушенко толпа девиц стоит за автографами, а этого никто не знает. И я чувствую, что он нос кривит, и сразу понял, что это Бродский.
И с одной стороны, он чувствовал страшный комплекс, потому что он любил и хотел славы, безусловно, и что у других это есть, а ему не дадено, и действительно было обидно.
Сам этот вечер в Коммунистической аудитории снимался для чего‑то – софиты, камеры… И когда начал читать Бродский, все софиты погасли, и ощущение, что вся аудитория погрузилась в темноту. Вот так вот его унизили.
Он неровно дышал по отношению и к Вознесенскому, и Евтушенко. Как он говорил: «Юра, я теперь колхозник!» – «Что это значит?» – «Ну, вон Евту́х выступает против колхозов, значит, я за них». Не любил он их, хотя написал добрую статью в какую‑то влиятельную газету о Белле Ахмадулиной. Но если на него нажать, то человек‑то в общем добрый.
У вас, я так понимаю, отношения были сложные: сначала издание вашей книги Бродским и когда вы эмигрировали, он вам помогал, а уже после известных событий – бомбежки Белграда – ваши отношения совсем разошлись?
Они и до этого начали расходиться. Он меня немножко презирал за то, что я вернулся. У него и у <Михаила> Барышникова это была линия <по поводу> возвращения в этот гадюшник, что ничего там не будет, что коммуняки затеяли перестройку – это чушь, плюнуть и растереть. Никакого не было трепетного чувства к родине абсолютно.
Сейчас вышла книга Володи Бондаренко, в которой он из него чуть не нового Есенина делает, русского патриота – но это смехотворно. Бродский – выдающийся поэт, но ничего подобного в нем не было.
Атеистом он не был, он был агностик. А чего не любил, так это клерикализм – и все попы у него были на подозрении, что они присваивают себе совершенно не причитающееся им посредничество между человеком и богом. Он себя Иовом чувствовал многострадальным: я сам веду разговор с богом! Он был эстетом и очень остро чувствовал уход красоты из мира – она тогда уже убывала.
Вы как раз в интервью как‑то говорили, что к вере в бога пришли через красоту.
В значительной степени, да – через красоту, через чтение Кьеркегора, например, его «Или-или». Как Розанов говорил: кто чувствует красоту русского пейзажа и может ее передать, тот уже никогда не предаст свою родину. И я тоже готов под этим подписаться.
Я у Розанова люблю фразу про свечечку, что «свечечку больше бога люблю».
Я обязательно раз в году езжу на его могилу, и вот неделю назад там был, в Черниговском ските, где они с Константином Леонтьевым лежат рядом. Чудом же обрели эти могилы – по рисуночку Пришвина в дневнике. Я всегда какое‑то особое чувство испытываю на их могилах. Несмотря на то, что и в том, и особенно в Розанове было много грязнотцы, ничего не поделаешь. Но было и много прекрасного, и он любил Россию, как и Леонтьев. А вот Чернышевский не любил никогда.
Когда я готовился к программе, меня поразила история, как вы, 15‑летний, поехали из Рыбинска в Москву, утешать Вознесенского.
Вот уже тогда я был правдоискателем. Я любил его стихи и подумал: если он сейчас покается, то мир перевернется. И действительно, сбежал из дома, приехал в Москву, ничего о ней не зная, взял в Мосгорсправке адрес: Нижняя Красносельская, дом 45, квартира 45.
Как он вас принял?
Очень хорошо! Удивительное совпадение – он сам открыл дверь…
Он сделал для меня очень много хорошего, очень поддержал. Это потом пути разошлись. Его поэма «Лонжюмо» о Ленине. Они же исповедовали идеологию XX Съезда, мол, Сталин – негодяй, а первые большевики – почти святые… вся вот эта ерунда, оттепель… Они заплатили этому дань и с этим уезжали на Запад на гастроли, и там среди «леваков» самых разных возрастов находили себе поклонников. И Советскому Союзу нужны были такие представители. Не Грибачева с Сафроновым же посылать туда. А мы уже пошли другим путем, мы не хотели никаких идеологических игр с советской властью.
А стихи свои Вознесенскому вы показали не в тот приезд, это было позже?
Тогда я не написал еще почти ничего.
Вас часто называли человеком Солженицына. Можно сказать, что Солженицын – человек, повлиявший на вас?
Конечно! Очень сильно повлиявший. И именно это консервативное почвенничество (он сам не любил слово «почвенничество»), его мировоззрение – это был патриотический антикоммунизм, так бы я назвал, и это было мне очень близко. Я до конца не понимал всех моих расхождений с диссидентами, например, это стало мне открываться только в эмиграции. Мы шли однажды по Елисейским полям с Наташей Горбаневской, я спросил: «Вот скажи, что ты, что Буковски – чего вы в идеале хотите?» – «Надо сократить СССР до размеров Московского царства, как минимум, для начала». – «Ты смеешься надо мной?» – «Нет, я на полном серьезе!»
Для меня это было что‑то невероятное. А Солженицын учил меня любви к родине, несмотря на то, что на нее надет марксистский намордник. В этом смысле он укрепил меня и позволил иметь свое мировоззрение, сильно отличавшееся от средне-диссидентского.
Вы часто говорите о миссии художника. Несомненно, она была у Солженицына, есть и у вас. Но есть и другая точка зрения: что беда великих русских писателей, что они становились в определенный момент учителями народа, начинали их пасти, и что в этот момент заканчивалась литература и художественность. Я знаю, что вы с этим не согласны, но хочу узнать ваше мнение.
Ну почему не согласен… Например, в случае с Толстым – это так. Ведь он написал единственный настоящий православный эпос – «Войну и мир». А вместо того чтобы русской телеге подставить плечо, с какого‑то момента он присоединился к толкающим. Когда он узнал, что в 1903 году на юге жгут усадьбы, он сказал: «Молодцы!». В данном случае его учительство не пошло на пользу. Но то, что Пушкин организовал «Современник», что Достоевский организовал «Дневник писателя» – это был не только финансовый проект, а необходимость говорить с людьми поверх литературы еще о чем‑то главном. Опять же, ощущение миссии или есть, или нет – его специально не привьешь. Я вот с этим родился, а у других этого нет в зароде.
Я немного утрирую, но все же: есть мнение, что лучшее – по краткости и емкости, что написал Солженицын – это «Один день Ивана Денисовича», и что под конец жизни он заигрался в пророка.
Это упрощенный взгляд. Правда и его просчет вот в чем: ему и в голову не могло прийти, что книга вымывается из мира, тем более книга таких объемов. Сейчас толще тургеневских повестей никто читать не будет. А он размахнулся на эпопею, когда время эпопей прошло. Вот его основная ошибка – надо было искать другие формы выражения. Может, и «Красное колесо» надо было ужать хотя бы наполовину, но там есть гениальные главы! И кто это прочитает, уже будет смотреть на русскую трагедию иначе, чем до прочтения: там очень объемно показана вся эта трагедия. Я читал «Красное колесо» дважды или трижды, и для меня это большая читательская радость.
Ну а что еще читать? «Мастер и Маргарита» читается за два дня, или рассказы Платонова. А в это можно погрузиться и плыть в этом полгода.
«Мастера и Маргариту» хорошо прочитать в 20 лет, и потом не перечитывать, чтобы не портить впечатление.
Так что тот, кто читает, кто любит и не забыл, что такое чтение, найдет в «Красном колесе» все, что хочет.
Вам близко такое утверждение, что человек живет не для счастья?
Конечно, близко. Мандельштам говорил Надежде Яковлевне: «Наденька, а с чего ты взяла, что мы должны быть счастливы?» И Тютчев говорил, что в жизни есть много прекрасного помимо счастья.
Счастье плосковато. Горе гораздо глубже, и человек в горе глубже и лучше бывает часто, чем человек просто счастливый. Настоящее счастье, я считаю, в ощущении выполненного долга, а не в том, чтобы вечером по кабакам ходить или на солнечном самолете летать отдыхать под пальмы.
Значит, все же человек создан для счастья, только не понимает, в чем его истинное счастье?
Очевидно. Я просто против счастья в его пошлом лобовом понимании, потребительском.
Под финал вопрос. Вы монархист, много хорошего говорите о российской империи, дореволюционной России. Но вы при этом не идеализируете ее?
Мне кажется, я смотрю на нее трезво. Революция вызрела все же в недрах России, несмотря на внешние вливания в нее, которые, конечно, очень революции пригодились. Я не скажу, что монархист, я человек с чувством иерархии. Я иерархично мыслю о существовании общества. Общество, где побеждают в результате дебатов, вливания огромных денег, схватки бульдогов под ковром – и побеждает не демократия, а пошлость. Для меня американские выборы – образец пошлятины. Особенно эти последние дебаты, что мы вмешались. На чем это основано? Как мы могли вмешаться? Это как надо не понимать и не любить свой народ, чтобы думать, что из Кремля, из медвежьей норы, может кто‑то так повлиять на сознание граждан своего государства, что они проголосуют не за того, за кого нужно. Это же абсурд! Это неуважение к своему народу думать, что с помощью технологий его можно склонить проголосовать не за того, за кого хотелось бы артистам Голливуда. Маразм какой‑то.
То, что мы видим сейчас в Америке – это логический конец тех демократических принципов, которые были доведены до абсурда и превратились в борьбу денежных мешков. Конечно, я считаю что власть – это заповеданное служение, и иерархия тоже. Я понимаю, что сейчас возрождение монархии невозможно. Но власть, где будут править Березовский, Чубайс и Гайдар – это мы уже проходили, это господь не приведи. Что бы ни говорили про коррупцию нынешних властных хозяев, это менее страшно, чем то, что было в 90‑е годы. Я тогда жил с ощущением постоянного политического унижения – это изнуряющее для патриотически мыслящего человека чувство! И я не хотел бы, чтобы в России такое повторилось. Мы не можем быть страной лакеев, никак не можем. Еще Америки на свете не было, у нас уже была «Троица» Рублева, правда?
Каким вы видите мир лет через десять-пятнадцать?
Не хочу загадывать. И даже не знаю, хочу ли я дожить до этого. Безумно любопытно, потому что колоссально ускорился ход истории, как у меня в стихах – неизвестна только глупцам развязка. Может быть это и так. Но если надежда умирает последней, то – вдруг что‑то совершенно неожиданное воспрянет в человечестве опять.
Да, ведь «Троица» Рублева появилась в довольно мрачное время.
Да. Предсказывать никак не берусь, <остаются> пессимизм и упования.
Забыл еще спросить про «Радио Свобода». Когда вы вели там программу свою, была ли там цензура?
Нет, цензуры не было. Просто однажды, когда я хотел проанализировать один из томов «Красного колеса» Солженицына, мне мой начальник сказал: «Может, не стоит связываться? Зачем? Ты молодой работник, недавно работаешь, ну что собак дразнить?» – «Да что вы! Я сделаю передачу, тебе самому понравится! Я не собираюсь настаивать на чем‑то, что может шокировать мюнхенское начальство (я в парижском бюро работал)». – «Шокирует сам выбор темы, пойми!»
Но вы в итоге сделали?
Конечно!
Вот такой Юрий Михайлович! Теперь точно последний вопрос: вы пишите дневники, сдаете их в РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства – примеч. ред.) с пометкой «не вскрывать до 2020 года». Почему именно этот год?
Когда я сдавал, впереди было семь-восемь лет, и казалось, что это очень долго. Сейчас придется продлить, потому что в этих дневниках много личного, много рассуждений о моих современниках, они все уже за эти годы состарились, и я не хочу никого обжигать. Проводить самоцензуру тоже невозможно – это от руки написанные тетради. Поэтому в 2019‑м я попрошу продлить еще на десять лет.
Я так понимаю, что мы эти дневники увидим уже после вашего ухода?
Наверно так.
Спасибо вам большое, мне было безумно интересно с вами беседовать. Новых вам успехов и работ!
В нем чувствовалась связь с репрессированными священниками, например, с отцом Павлом Флоренским. Какая‑то незримая связь. Он боялся меньше, чем большинство его коллег. Я знал, что он не сдаст, что с ним в этом смысле можно говорить о чем угодно. И очень важна была среда.
Конечно, это особая страница – поездки к нему в Новую деревню, Пасхи, которые он проводил, как мы в электричках разговлялись… Это было удивительное единение. Потом судьба нас всех раскидала совершенно по‑разному, люди мы были все тоже разные. Но там было ощущение солидарности, соборности, общинности!..
Как думаете, мы когда-нибудь узнаем тайну его убийства?
Я ни в коем случае не считаю, что «органы» его убили – не то было время. Думаю, это была бытовая криминальная разборка или какой‑то шизофреник… Вокруг священников много бесноватых клубится. Думаю, убийство отца Александра Меня – того же рода.
Про КГБ и допросы: расскажите, много ли было допросов, как общались тогда следователи, как проходили допросы?
Как всегда: добрый и злой следователь. Не во время одного даже допроса, а на разных каждый был в своем амплуа. Брали подписку о неразглашении, но я шел к Феликсу Светову (русский писатель, диссидент – примеч. ред.), зная, что у него стоит прослушка, и тут же разглашал. Мне на это потом говорили: «Юрий Михайлович, с вами нельзя иметь дело, вот же ваша подпись <на расписке>». Я отвечаю: «Когда я подписываю, я уверен, что не буду <разглашать>, но стоит выпить рюмку – меня несет. Не надо мне доверять то, о чем говорить нельзя, я за себя не отвечаю». Дурачка из себя строил (смеется).
А злые следователи как себя вели?
Злой пугал, что лагерь неизбежен. Так получилось, что я стал самым молодым публикующимся в «тамиздате» самиздатчиком – в «Вестнике русского христианского движения», «Континенте», «Гранях». Им надо было со мной что‑то делать, чтобы другие не пошли по моим стопам, а то «другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь».
Однажды привезли среди ночи на Лубянку, я думал, что это уже арест. А они говорят, что это еще не арест. У меня аж сердце упало: что же такое и зачем таскать среди ночи? Я вот думаю, чем черт не шутит, может, мое дело среди других просматривал Андропов? Он же учился в Рыбинске, в речном училище, где много позже преподавала моя мать, и он сам писал стихи. И вполне мог отнестись ко мне как к земляку, мол, на Запад пошлем его, и пусть там загибается, если ему это так нравится, чего его сажать… Мне так и сказали: «Мы из вас делать нового Гумилева не будем».
И последней каплей была издание вашей книги Бродским в Штатах, да? И до этого вы с Бродским знакомы не были. Какое у вас первое впечатление о Бродском было?
Меня резануло, что он вел себя недостаточно независимо по отношению к шестидесятникам.
Вхожу я как‑то во дворик МГУ, там сидит на ступеньках под памятником Ломоносову Евтушенко, и рядом – какой‑то рыжий. К Евтушенко толпа девиц стоит за автографами, а этого никто не знает. И я чувствую, что он нос кривит, и сразу понял, что это Бродский.
И с одной стороны, он чувствовал страшный комплекс, потому что он любил и хотел славы, безусловно, и что у других это есть, а ему не дадено, и действительно было обидно.
Сам этот вечер в Коммунистической аудитории снимался для чего‑то – софиты, камеры… И когда начал читать Бродский, все софиты погасли, и ощущение, что вся аудитория погрузилась в темноту. Вот так вот его унизили.
Он неровно дышал по отношению и к Вознесенскому, и Евтушенко. Как он говорил: «Юра, я теперь колхозник!» – «Что это значит?» – «Ну, вон Евту́х выступает против колхозов, значит, я за них». Не любил он их, хотя написал добрую статью в какую‑то влиятельную газету о Белле Ахмадулиной. Но если на него нажать, то человек‑то в общем добрый.
У вас, я так понимаю, отношения были сложные: сначала издание вашей книги Бродским и когда вы эмигрировали, он вам помогал, а уже после известных событий – бомбежки Белграда – ваши отношения совсем разошлись?
Они и до этого начали расходиться. Он меня немножко презирал за то, что я вернулся. У него и у <Михаила> Барышникова это была линия <по поводу> возвращения в этот гадюшник, что ничего там не будет, что коммуняки затеяли перестройку – это чушь, плюнуть и растереть. Никакого не было трепетного чувства к родине абсолютно.
Сейчас вышла книга Володи Бондаренко, в которой он из него чуть не нового Есенина делает, русского патриота – но это смехотворно. Бродский – выдающийся поэт, но ничего подобного в нем не было.
Атеистом он не был, он был агностик. А чего не любил, так это клерикализм – и все попы у него были на подозрении, что они присваивают себе совершенно не причитающееся им посредничество между человеком и богом. Он себя Иовом чувствовал многострадальным: я сам веду разговор с богом! Он был эстетом и очень остро чувствовал уход красоты из мира – она тогда уже убывала.
Вы как раз в интервью как‑то говорили, что к вере в бога пришли через красоту.
В значительной степени, да – через красоту, через чтение Кьеркегора, например, его «Или-или». Как Розанов говорил: кто чувствует красоту русского пейзажа и может ее передать, тот уже никогда не предаст свою родину. И я тоже готов под этим подписаться.
Я у Розанова люблю фразу про свечечку, что «свечечку больше бога люблю».
Я обязательно раз в году езжу на его могилу, и вот неделю назад там был, в Черниговском ските, где они с Константином Леонтьевым лежат рядом. Чудом же обрели эти могилы – по рисуночку Пришвина в дневнике. Я всегда какое‑то особое чувство испытываю на их могилах. Несмотря на то, что и в том, и особенно в Розанове было много грязнотцы, ничего не поделаешь. Но было и много прекрасного, и он любил Россию, как и Леонтьев. А вот Чернышевский не любил никогда.
Когда я готовился к программе, меня поразила история, как вы, 15‑летний, поехали из Рыбинска в Москву, утешать Вознесенского.
Вот уже тогда я был правдоискателем. Я любил его стихи и подумал: если он сейчас покается, то мир перевернется. И действительно, сбежал из дома, приехал в Москву, ничего о ней не зная, взял в Мосгорсправке адрес: Нижняя Красносельская, дом 45, квартира 45.
Как он вас принял?
Очень хорошо! Удивительное совпадение – он сам открыл дверь…
Он сделал для меня очень много хорошего, очень поддержал. Это потом пути разошлись. Его поэма «Лонжюмо» о Ленине. Они же исповедовали идеологию XX Съезда, мол, Сталин – негодяй, а первые большевики – почти святые… вся вот эта ерунда, оттепель… Они заплатили этому дань и с этим уезжали на Запад на гастроли, и там среди «леваков» самых разных возрастов находили себе поклонников. И Советскому Союзу нужны были такие представители. Не Грибачева с Сафроновым же посылать туда. А мы уже пошли другим путем, мы не хотели никаких идеологических игр с советской властью.
А стихи свои Вознесенскому вы показали не в тот приезд, это было позже?
Тогда я не написал еще почти ничего.
Вас часто называли человеком Солженицына. Можно сказать, что Солженицын – человек, повлиявший на вас?
Конечно! Очень сильно повлиявший. И именно это консервативное почвенничество (он сам не любил слово «почвенничество»), его мировоззрение – это был патриотический антикоммунизм, так бы я назвал, и это было мне очень близко. Я до конца не понимал всех моих расхождений с диссидентами, например, это стало мне открываться только в эмиграции. Мы шли однажды по Елисейским полям с Наташей Горбаневской, я спросил: «Вот скажи, что ты, что Буковски – чего вы в идеале хотите?» – «Надо сократить СССР до размеров Московского царства, как минимум, для начала». – «Ты смеешься надо мной?» – «Нет, я на полном серьезе!»
Для меня это было что‑то невероятное. А Солженицын учил меня любви к родине, несмотря на то, что на нее надет марксистский намордник. В этом смысле он укрепил меня и позволил иметь свое мировоззрение, сильно отличавшееся от средне-диссидентского.
Вы часто говорите о миссии художника. Несомненно, она была у Солженицына, есть и у вас. Но есть и другая точка зрения: что беда великих русских писателей, что они становились в определенный момент учителями народа, начинали их пасти, и что в этот момент заканчивалась литература и художественность. Я знаю, что вы с этим не согласны, но хочу узнать ваше мнение.
Ну почему не согласен… Например, в случае с Толстым – это так. Ведь он написал единственный настоящий православный эпос – «Войну и мир». А вместо того чтобы русской телеге подставить плечо, с какого‑то момента он присоединился к толкающим. Когда он узнал, что в 1903 году на юге жгут усадьбы, он сказал: «Молодцы!». В данном случае его учительство не пошло на пользу. Но то, что Пушкин организовал «Современник», что Достоевский организовал «Дневник писателя» – это был не только финансовый проект, а необходимость говорить с людьми поверх литературы еще о чем‑то главном. Опять же, ощущение миссии или есть, или нет – его специально не привьешь. Я вот с этим родился, а у других этого нет в зароде.
Я немного утрирую, но все же: есть мнение, что лучшее – по краткости и емкости, что написал Солженицын – это «Один день Ивана Денисовича», и что под конец жизни он заигрался в пророка.
Это упрощенный взгляд. Правда и его просчет вот в чем: ему и в голову не могло прийти, что книга вымывается из мира, тем более книга таких объемов. Сейчас толще тургеневских повестей никто читать не будет. А он размахнулся на эпопею, когда время эпопей прошло. Вот его основная ошибка – надо было искать другие формы выражения. Может, и «Красное колесо» надо было ужать хотя бы наполовину, но там есть гениальные главы! И кто это прочитает, уже будет смотреть на русскую трагедию иначе, чем до прочтения: там очень объемно показана вся эта трагедия. Я читал «Красное колесо» дважды или трижды, и для меня это большая читательская радость.
Ну а что еще читать? «Мастер и Маргарита» читается за два дня, или рассказы Платонова. А в это можно погрузиться и плыть в этом полгода.
«Мастера и Маргариту» хорошо прочитать в 20 лет, и потом не перечитывать, чтобы не портить впечатление.
Так что тот, кто читает, кто любит и не забыл, что такое чтение, найдет в «Красном колесе» все, что хочет.
Вам близко такое утверждение, что человек живет не для счастья?
Конечно, близко. Мандельштам говорил Надежде Яковлевне: «Наденька, а с чего ты взяла, что мы должны быть счастливы?» И Тютчев говорил, что в жизни есть много прекрасного помимо счастья.
Счастье плосковато. Горе гораздо глубже, и человек в горе глубже и лучше бывает часто, чем человек просто счастливый. Настоящее счастье, я считаю, в ощущении выполненного долга, а не в том, чтобы вечером по кабакам ходить или на солнечном самолете летать отдыхать под пальмы.
Значит, все же человек создан для счастья, только не понимает, в чем его истинное счастье?
Очевидно. Я просто против счастья в его пошлом лобовом понимании, потребительском.
Под финал вопрос. Вы монархист, много хорошего говорите о российской империи, дореволюционной России. Но вы при этом не идеализируете ее?
Мне кажется, я смотрю на нее трезво. Революция вызрела все же в недрах России, несмотря на внешние вливания в нее, которые, конечно, очень революции пригодились. Я не скажу, что монархист, я человек с чувством иерархии. Я иерархично мыслю о существовании общества. Общество, где побеждают в результате дебатов, вливания огромных денег, схватки бульдогов под ковром – и побеждает не демократия, а пошлость. Для меня американские выборы – образец пошлятины. Особенно эти последние дебаты, что мы вмешались. На чем это основано? Как мы могли вмешаться? Это как надо не понимать и не любить свой народ, чтобы думать, что из Кремля, из медвежьей норы, может кто‑то так повлиять на сознание граждан своего государства, что они проголосуют не за того, за кого нужно. Это же абсурд! Это неуважение к своему народу думать, что с помощью технологий его можно склонить проголосовать не за того, за кого хотелось бы артистам Голливуда. Маразм какой‑то.
То, что мы видим сейчас в Америке – это логический конец тех демократических принципов, которые были доведены до абсурда и превратились в борьбу денежных мешков. Конечно, я считаю что власть – это заповеданное служение, и иерархия тоже. Я понимаю, что сейчас возрождение монархии невозможно. Но власть, где будут править Березовский, Чубайс и Гайдар – это мы уже проходили, это господь не приведи. Что бы ни говорили про коррупцию нынешних властных хозяев, это менее страшно, чем то, что было в 90‑е годы. Я тогда жил с ощущением постоянного политического унижения – это изнуряющее для патриотически мыслящего человека чувство! И я не хотел бы, чтобы в России такое повторилось. Мы не можем быть страной лакеев, никак не можем. Еще Америки на свете не было, у нас уже была «Троица» Рублева, правда?
Каким вы видите мир лет через десять-пятнадцать?
Не хочу загадывать. И даже не знаю, хочу ли я дожить до этого. Безумно любопытно, потому что колоссально ускорился ход истории, как у меня в стихах – неизвестна только глупцам развязка. Может быть это и так. Но если надежда умирает последней, то – вдруг что‑то совершенно неожиданное воспрянет в человечестве опять.
Да, ведь «Троица» Рублева появилась в довольно мрачное время.
Да. Предсказывать никак не берусь, <остаются> пессимизм и упования.
Забыл еще спросить про «Радио Свобода». Когда вы вели там программу свою, была ли там цензура?
Нет, цензуры не было. Просто однажды, когда я хотел проанализировать один из томов «Красного колеса» Солженицына, мне мой начальник сказал: «Может, не стоит связываться? Зачем? Ты молодой работник, недавно работаешь, ну что собак дразнить?» – «Да что вы! Я сделаю передачу, тебе самому понравится! Я не собираюсь настаивать на чем‑то, что может шокировать мюнхенское начальство (я в парижском бюро работал)». – «Шокирует сам выбор темы, пойми!»
Но вы в итоге сделали?
Конечно!
Вот такой Юрий Михайлович! Теперь точно последний вопрос: вы пишите дневники, сдаете их в РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства – примеч. ред.) с пометкой «не вскрывать до 2020 года». Почему именно этот год?
Когда я сдавал, впереди было семь-восемь лет, и казалось, что это очень долго. Сейчас придется продлить, потому что в этих дневниках много личного, много рассуждений о моих современниках, они все уже за эти годы состарились, и я не хочу никого обжигать. Проводить самоцензуру тоже невозможно – это от руки написанные тетради. Поэтому в 2019‑м я попрошу продлить еще на десять лет.
Я так понимаю, что мы эти дневники увидим уже после вашего ухода?
Наверно так.
Спасибо вам большое, мне было безумно интересно с вами беседовать. Новых вам успехов и работ!
Евгений Сулес
