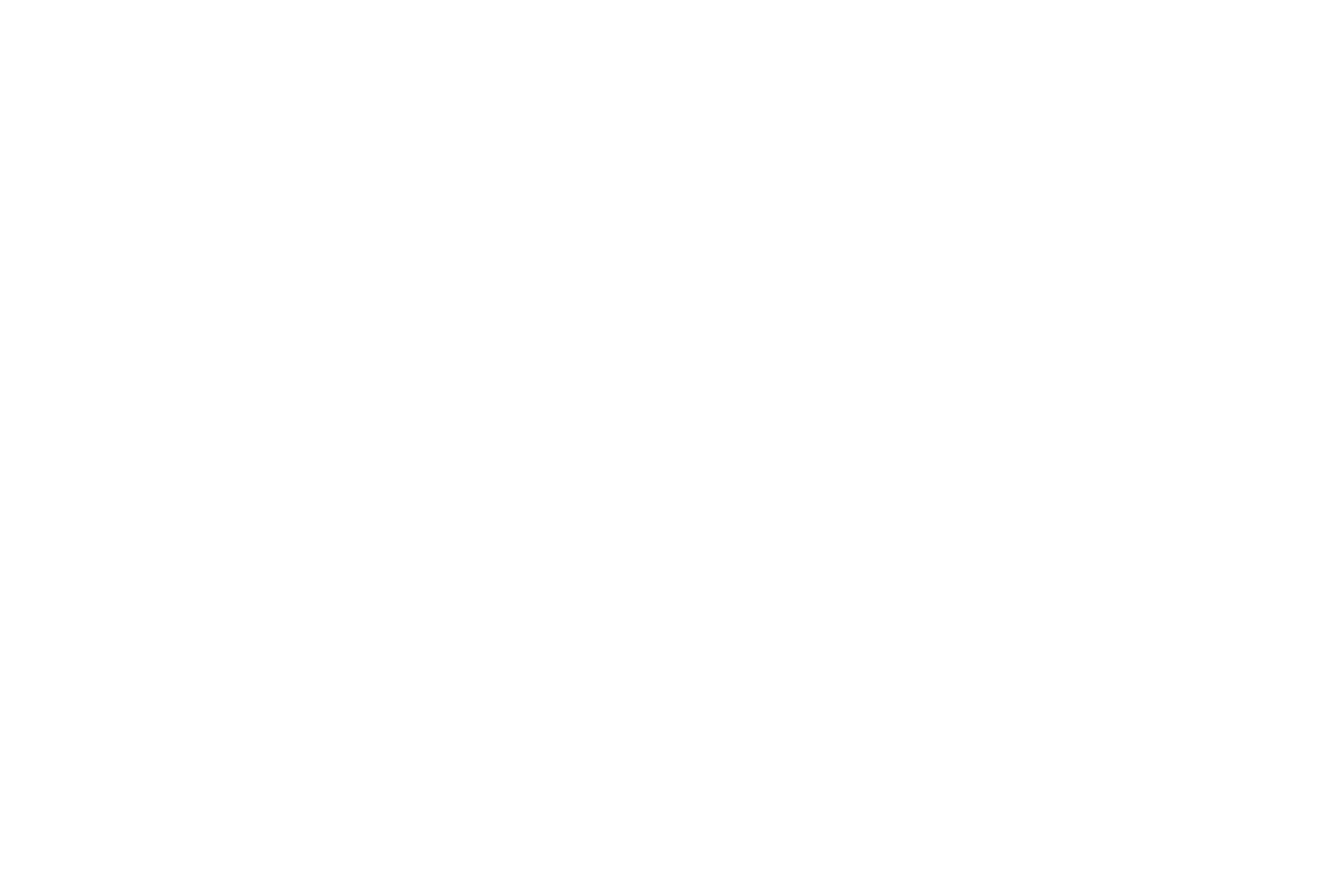
Константин Кедров
Вопросы: Евгений Сулес
Сегодня у нас гость, про которого в свое время Евгений Евтушенко сказал, что это уникалист. Константин Александрович Кедров.
Константин Александрович, добрый вечер!
Добрый вечер.
У Милана Кундеры был прекрасный роман «Неспешность». Вот и я люблю очень подробно и неспешно представлять наших гостей. Запаситесь скромностью и терпением. Итак, Константин Александрович Кедров, поэт, драматург, журналист, литературный критик, доктор философских наук, кандидат филологических наук, автор термина «метаметафора», философской теории метакода, член исполкома русского ПЕН‑центра, президент московской ассоциации поэтов ЮНЕСКО, председатель правления Союза поэтов Интернета, член Большого жюри национальной литературной премии «Поэт года». Работал старшим преподавателем кафедры русской литературы Литературного института имени Горького, литературным обозревателем газеты «Известия», затем газеты «Новые известия», основатель и главный редактор «Газеты ПОэзия», позже – «Журнала ПОэтов». Декан Академии поэтов и философов Университета Натальи Нестеровой. Автор и ведущий телевизионных учебных программ: «Поэзия Брюсова», «Отцы и дети», «Бежин луг», «Голоса в Спасском», «Русская культура XVIII века» и других. Вместе со своими студентами создал в начале 80‑х годов прошлого века школу метаметафоры. Художественным манифестом метаметафоризма стала его поэма «Компьютер любви». В 1989 году издал монографию «Поэтический космос» с изложением концепции метаметафоры и философской теории метакода – единого кода живого и неорганического космоса. Автор нескольких десятков книг и публикаций в различных крупных печатных изданиях, включая журналы «Новый мир», «Литературная учеба», «Писатель и жизнь». Лауреат премии Грибоедова за верность служения отечественной словесности. Награжден международной отметиной имени Давида Бурлюка, лауреат Высшей международной литературной премии Южной Кореи имени Манхэ. 21 марта 2000 года по его инициативе и под его руководством был проведен первый Всемирный день поэзии ЮНЕСКО в Театре на Таганке с участием руководителя театра Юрия Любимова и поэта Андрея Вознесенского. Вот такая, по большому счету, краткая справка, потому что про Константина Александровича можно рассказывать гораздо больше и дольше.
Ну что же, метаметафора – это Константин Кедров, но Константин Кедров – это не метаметафора. Давайте вкратце введем в курс дела наших телезрителей. Напомним, что такое метаметафора.
Некоторые почему‑то думают, что в науке есть достижения, открытия, а вот в поэзии… Вот Пушкин – и дальше не надо ничего делать. Но если бы Пушкин дожил до наших дней, он бы сделал все те открытия, которые сделали Маяковский, Хлебников, Мандельштам. Тут тоже идет развитие. В 1960‑м году я, будучи еще 18‑летним студентом, написал поэму «Бесконечная». И там были такие слова:
около окон пролет полета и этот стон среди серых стен какой-то прохожий шагнул в пространство и рухнул замертво сквозь столетья вода текла сквозь бетон и вечность а дворник сметал с тротуара звезды и в мокром асфальте ломались люди я вышел к себе через-навстречу-от и ушел под воздвигая над…
Я тогда еще не понимал, что это метаметафора. Это происходит во время выворачивания внутреннего на внешнее.
В 18 лет вы написали?
Да.
В 18 лет такие строки!
Поэма называлась «Бесконечная». Одно из свойств метаметафоры – ее бесконечность. Перспектива метаметафоры всегда уходит в бесконечность. Там были еще другие слова. Например,
…никогда не приближусь к тебе ближе чем цветок приближается к солнцу…
Это бесконечность. Цветок, он бесконечно (показывает вытягивающий жест) приближается к солнцу. Это была поэма «Бесконечная». Я еще не придумал названия для этого момента. Мы привыкли, что человек находится внутри вселенной. А вселенная – вокруг нас. Это обычное восприятие. Но мало ли какие обычные восприятия. Например, мы привыкли, что земля плоская. А она ведь не плоская. Или привыкли к тому, что солнце всходит и заходит. Но еще Пушкин отметил:
Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.
Не Солнце ведь ходит вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Хотя последние опросы показали, что, оказывается, чуть ли не 30 процентов населения страны не знает даже этого. И такая же иллюзия – что человек внутри вселенной. А может быть и иначе. Он может, вывернувшись наизнанку – вышел к себе через навстречу от – охватить собою все мироздание. Такие процессы в природе есть: бутон раскрывается и охватывает, улитка выползает из ракушки. У меня есть такое стихотворение:
Сколько бы ни было лет вселенной у человека времени больше
Переполняют меня облака а на заутрене звонких зорь синий журавлик и золотой дарят мне искренность и постоянство
Сколько бы я ни прожил в этом мире я проживу дольше чем этот мир
Вылепил телом я звездную глыбу где шестеренки лучей тело мое высотой щекочут из голубого огня
Обтекаю галактику селезенкой я улиткой звездной вполз в себя медленно волоча за собой вихревую галактику как ракушку
Звездный мой дом опустел без меня
Это тоже выворачивание момента. Это не все свойства, но главное свойство метаметафоры – эта неожиданная переориентация, при которой не просто человек внутри космоса, но одновременно и космос внутри человека оказывается. Самое удивительное, что, прожив уже достаточно большую часть своей жизни, где‑то в конце 80‑х я вот об этих вещах рассказываю в одном из клубов, уже будучи отстраненным от преподавания за эти вещи, про которые мы с вами сейчас говорим. Это считалось мистикой. Боялись всего неожиданного. К тому же вокруг меня разрослась школа. Это поэты. Поэты метаметафоры – это прежде всего Алексей Парщиков. Но это есть и у Александра Еременко. Они были моими студентами в Литинституте. Но к ним примкнул и уже окончивший МГУ Иван Жданов. Он только что Пушкинскую премию получил. Вот у Жданова есть: «Внутри деревьев падает листва…», или есть у Парщикова: «Как строится самолет, с учетом фигурки пилота, так строится небосвод с учетом фигурки удода, и это наш пятый удод». Понимаете? Неожиданное освоение внешне‑внутреннего пространства. Это могло появиться только в эпоху, как принято говорить, освоения космоса. Освоение космоса заключается не только ведь в том, что ракеты поднимаются вверх, хотя и это конечно входит.
Меняется сознание…
Да. И я про эти вещи рассказываю, и ко мне подходят и говорят: «А вы знаете, то, что вы говорите, подтверждает астронавт Эдгар Митчелл. Который на Луне был. Он приехал в СССР и говорит: смотрите – я смотрю, газета «Советская Россия», такими космологическими проблемами вроде бы не занимается. Был очень удивлен. И читаю: – Эдгар Митчелл говорит: когда я ступил на Луну и взглянул с нее на Землю, со мной произошел переворот. Что я частица космоса – но это банальность. Космос стал частицей меня». А это опять же происходит при выворачивании – я вышел к себе через навстречу от и ушел под раздвигая над – все это суммировалось. И у меня в поэзии это постоянно присутствует. Но особенно это в поэме «Компьютер любви», которую я написал в 83‑м году. Сейчас ее называют манифестом метаметафоры. Но я ее писал не как манифест, а как откровение. Как с вами сейчас говорю, там я говорю о самом интересном и важном для меня. И, надеюсь, немножко и для вас, дорогие мои слушатели.
Небо – это высота взгляда
Взгляд – это глубина неба
Боль – это прикосновение Бога
Бог – это прикосновение боли
Сон – это ширина души
Душа – это глубина сна
Человек – это изнанка неба
Небо – это изнанка человека…
Вот этот момент – метаметафора. Ну а там дальше, очень любил Вознесенский:
Прикосновение – это граница поцелуя
Поцелуй – это безграничность прикосновения
Кожа – это рисунок созвездий
Созвездия – это рисунок кожи
Расстояние между людьми заполняют звезды
Расстояние между звездами заполняют люди
Любовь – это скорость света, обратно пропорциональная расстоянию между нами (по теории относительности свет летит)
Расстояние между нами, обратно пропорциональное скорости света, это – любовь…
Это не все образы. Там есть:
Ладонь – это лодочка для невесты
Невеста – это лодочка для ладони…
Вы так потрясающе читаете! А вы ведь из театральной семьи. Ваш папа…
Ученик Мейерхольда.
Режиссер, ученик Мейерхольда. А мама – актриса. Наверное, как‑то через родителей передалось. Вы потрясающе передаете текст.
Вы знаете, какая-то мистика все‑таки существует в этом мире. Потому что фамилия моей мамы, уже по третьему ее супругу, – Кедрова. И когда я познакомился с Юрием Петровичем Любимовым, уже сравнительно поздно, в 99‑м году… С ним у нас было множество великолепных дел, в частности, моя мистерия «Сократ/Оракул», которая вошла в репертуар Таганки, была поставлена в Афинах, у Парфенона. Я до сих пор не могу – может, мне это приснилось? Может, это сказка. Это ж чудо какое‑то! А он так смотрит на меня (показывает, как): «А вы ведь сын моего учителя». Михаил Кедров – ученик Станиславского и учитель Юрия Петровича Любимова. Я говорю: «Юрий Петрович, да ничего подобного. Мой папа – действительно режиссер. Но не Кедров». – «А может, все‑таки?» И я недавно смотрю в интернете – портрет Михаила Кедрова и мой, их рядом так поставили. Ну, похож. Все люди друг на друга похожи (смеются). Какая‑то мистика в этом присутствует.
Это просто однофамилец был какой‑то?
Это Михаил Кедров – знаменитейший режиссер. Учитель Юрия Петровича Любимова. Но Юрий Петрович так в душе, мне кажется, и не верил.
А смотрите, как интересно получается. «Бесконечную» вы написали в 18 лет. Сам термин метаметафора появился гораздо позже.
Ну, где‑то... в 84‑м году я опубликовал к гениальной поэме «Новогодние строчки» Леши Парщикова, тогда еще будучи преподавателем Литературного института: метаметафора Алексея Парщикова. Где я сказал: «Привыкайте к метаметафоре, она бесконечно раздвинет пределы вашего зрения». Там такие у него образы: «Дельфин – это только море». Или вот у меня было такое стихотворение. Мы с Лешей были в Крыму, он очень зазывал нас с Леной, моей супругой, а он с Олей Свибловой, его супругой, в Крым. Там я написал стихотворение, которое заканчивалось словами:
море велосипедных колес
велосипедное море колес
У Парщикова – позднее, в поэме «Новогодние строчки»:
А что такое море? – это свалка велосипедных рулей (ну, так волны набегают), а земля из-под ног укатила…
Видите, метаметафора – это что‑то живое. Это не то, что там из башки. Это – отсюда (прикладывает руку на сторону сердца).
Я вот о чем подумал. Я вспомнил слова Эйнштейна, который говорил, что все понял и дальше искал только, как это доказать.
Совершенно верно. Он мысленно за световым лучом полетел в объектив фотоаппарата и стал представлять, а что будет. Будет то, что в Теории относительности. И, кстати, знаете, в 18, 20 лет я ведь больше дружил со своими одноуниверситетниками – физиками и математиками, чем с филологами. По‑моему, филологи ужасно отстали. Они не знают Теорию относительности. А Теорию относительности надо знать, ведь там время сжимается до нуля. Что такое ноль времени? Если мчать со скоростью света на фотоне несущемся – время равно нулю.
Так, может быть, дух божий, который носился, это как раз то самое?
Да. И ведь в Библии так и сказано, начинается с чего сотворение мира? И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. Или вот все говорят – палиндром, это что такое, строка читается справа налево и слева направо. Да, друзья моя, строка читается слева направо и справа налево одинаково. Но ведь мир, как вот только недавно выяснилось, на микроуровне полиндромичен. Если электрон, отсюда запускаемый, мчится до Владивостока, он возвращается обратно волной. То есть на уровне микромира время обратимо. А еще Хлебников называл палиндром перевертень, что когда строка читается слева направо и справа налево – это движение времени, это вечность (пальцем рисует в воздухе восьмерки, знак бесконечность). Охватывается объем вечности. Например, вот я горжусь очень палиндромом: Ещь циник Ницше. Игра, конечно. Искусство – вообще игра. Все игра. Да и мир наш...
Божественная игра.
Божественная игра. Конечно.
Вы называете Хлебникова величайшим поэтом XX века.
Несомненно. Он давал и дает мне столько! Ни один поэт мне столько не дал. Правда, конечно, еще Маяковский. Он меня заразил своей энергией. Вот даже в 16 лет я пишу:
Любимая спит. Ей снятся ландыши
А может быть я обескровленным маком
Наши души играют в ладушки
Мой сосед коллекционирует марки.
Ты видишь к тебе устремились здания
Синие лошади в снежном мыле
А я на крыше живой или раненый
Твой Дон-Кихот на кирпичной кобыле
Это ж Маяковский, конечно, там бурлит. Я даже жалею, с годами ушла эта энергетика во мне.
Ну не знаю, не знаю…
Нет?
Я поражаюсь вашей энергии.
А вот еще было стихотворение, которое мне здорово в житейском плане испортило жизнь, а на самом деле втолкнуло меня тоже в правильную колею.
По комнате бродит медведь тишины
Я заброшен сюда из другого светлого века
мне смешно когда четыре стены
на одного свободного человека
Нет я не строил клетку из кирпичей
Это не я придумал замазывать солнце стеклом
Люди, хотите я позову врачей
и они прикажут разрушить каменный дом
А я… я заброшен сюда из другого светлого века
для меня ваше здание – каменное ничто
Мне смешно,
когда на одного свободного человека
надевают железное и каменное пальто
Боже мой (далее говорит официальным голосом), в то время как мы каждому молодожену отдельную квартиру через 25 лет, а молодой поэт вместо того, чтобы помогать нам строить коммунизм, хочет разрушить наши здания. Дебилизм такой. И все. На 25 лет меня отлучили.
Это вообще удивительная вещь – у вас первая книга вышла в 45 лет.
Да. И то – с каким боем, вы не представляете. Тут предисловие было Вознесенского. Он пишет… До сих пор не могут критики успокоиться. Он написал, назвал меня Иоанном Крестителем новой метафоричности. И это книга за свой счет. Все, что у меня было накоплено, 10 тысяч за всю преподавательскую деятельность, тогда уже инфляция бешенная…
Это 90‑й год?
90‑й год. Уже все это тает на глазах. Сначала шесть тысяч стоило, а у меня на книжке – 10 тысяч. Пока я дошел до «Художественной литературы», это уже стало стоить 10 тысяч. Но я все равно не жалею. Я издал этот сборник.
То есть кто‑то на эти последние тающие сбережения поспешил купить машины, а кто‑то, друзья мои, издавал свой первый поэтический сборник в 45 лет… Правильно ли я понимаю, что если искать истоки метаметафоризма, то это Серебряный век, это футуристы в первую очередь?
Конечно. И вообще неправильное представление, это все выдумали догматики. Я уважаю все взгляды. Любые. Но это догматики придумали деление – авангардисты, неавангардитсы. Ну какой Маяковский авангардист‑неавангардист? он прежде всего гений. А потом уже все остальное. Есенин. Ну что мы сейчас будем – имажинист‑неимажинист. Имажинизм – тоже футуризм. Гений прежде всего. Это ж было прервано искусственно. Это же не самой собой снова перешли на такую тихую, тихую поэзию. Я не против тихой поэзии. Я сам люблю тихие, спокойные, как принято у нас говорить, – классические <стихи>. Хотя тот же самый авангард, футуризм – тоже уже стали классикой.
Конечно.
Вы знаете, я выступал в Сорбонне. Дважды. Прямо скажу, под овации. Я знаком со всеми поэтами мира, более‑менее значительными. Слушайте, ничего близкого к мощи русской поэзии – не подумайте, что это какой‑то косный патриотизм – нет. Это чудо. Это уникально. И это надо всячески нежить, холить, выращивать. И не говорить, что был какой‑то авангард, а вот какая‑то классика. Все классика. И Пушкин был когда‑то авангард.
В разных фазах все – сегодня это авангард, завтра – классика.
Ну, разумеется.
Константин Александрович, добрый вечер!
Добрый вечер.
У Милана Кундеры был прекрасный роман «Неспешность». Вот и я люблю очень подробно и неспешно представлять наших гостей. Запаситесь скромностью и терпением. Итак, Константин Александрович Кедров, поэт, драматург, журналист, литературный критик, доктор философских наук, кандидат филологических наук, автор термина «метаметафора», философской теории метакода, член исполкома русского ПЕН‑центра, президент московской ассоциации поэтов ЮНЕСКО, председатель правления Союза поэтов Интернета, член Большого жюри национальной литературной премии «Поэт года». Работал старшим преподавателем кафедры русской литературы Литературного института имени Горького, литературным обозревателем газеты «Известия», затем газеты «Новые известия», основатель и главный редактор «Газеты ПОэзия», позже – «Журнала ПОэтов». Декан Академии поэтов и философов Университета Натальи Нестеровой. Автор и ведущий телевизионных учебных программ: «Поэзия Брюсова», «Отцы и дети», «Бежин луг», «Голоса в Спасском», «Русская культура XVIII века» и других. Вместе со своими студентами создал в начале 80‑х годов прошлого века школу метаметафоры. Художественным манифестом метаметафоризма стала его поэма «Компьютер любви». В 1989 году издал монографию «Поэтический космос» с изложением концепции метаметафоры и философской теории метакода – единого кода живого и неорганического космоса. Автор нескольких десятков книг и публикаций в различных крупных печатных изданиях, включая журналы «Новый мир», «Литературная учеба», «Писатель и жизнь». Лауреат премии Грибоедова за верность служения отечественной словесности. Награжден международной отметиной имени Давида Бурлюка, лауреат Высшей международной литературной премии Южной Кореи имени Манхэ. 21 марта 2000 года по его инициативе и под его руководством был проведен первый Всемирный день поэзии ЮНЕСКО в Театре на Таганке с участием руководителя театра Юрия Любимова и поэта Андрея Вознесенского. Вот такая, по большому счету, краткая справка, потому что про Константина Александровича можно рассказывать гораздо больше и дольше.
Ну что же, метаметафора – это Константин Кедров, но Константин Кедров – это не метаметафора. Давайте вкратце введем в курс дела наших телезрителей. Напомним, что такое метаметафора.
Некоторые почему‑то думают, что в науке есть достижения, открытия, а вот в поэзии… Вот Пушкин – и дальше не надо ничего делать. Но если бы Пушкин дожил до наших дней, он бы сделал все те открытия, которые сделали Маяковский, Хлебников, Мандельштам. Тут тоже идет развитие. В 1960‑м году я, будучи еще 18‑летним студентом, написал поэму «Бесконечная». И там были такие слова:
около окон пролет полета и этот стон среди серых стен какой-то прохожий шагнул в пространство и рухнул замертво сквозь столетья вода текла сквозь бетон и вечность а дворник сметал с тротуара звезды и в мокром асфальте ломались люди я вышел к себе через-навстречу-от и ушел под воздвигая над…
Я тогда еще не понимал, что это метаметафора. Это происходит во время выворачивания внутреннего на внешнее.
В 18 лет вы написали?
Да.
В 18 лет такие строки!
Поэма называлась «Бесконечная». Одно из свойств метаметафоры – ее бесконечность. Перспектива метаметафоры всегда уходит в бесконечность. Там были еще другие слова. Например,
…никогда не приближусь к тебе ближе чем цветок приближается к солнцу…
Это бесконечность. Цветок, он бесконечно (показывает вытягивающий жест) приближается к солнцу. Это была поэма «Бесконечная». Я еще не придумал названия для этого момента. Мы привыкли, что человек находится внутри вселенной. А вселенная – вокруг нас. Это обычное восприятие. Но мало ли какие обычные восприятия. Например, мы привыкли, что земля плоская. А она ведь не плоская. Или привыкли к тому, что солнце всходит и заходит. Но еще Пушкин отметил:
Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.
Не Солнце ведь ходит вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Хотя последние опросы показали, что, оказывается, чуть ли не 30 процентов населения страны не знает даже этого. И такая же иллюзия – что человек внутри вселенной. А может быть и иначе. Он может, вывернувшись наизнанку – вышел к себе через навстречу от – охватить собою все мироздание. Такие процессы в природе есть: бутон раскрывается и охватывает, улитка выползает из ракушки. У меня есть такое стихотворение:
Сколько бы ни было лет вселенной у человека времени больше
Переполняют меня облака а на заутрене звонких зорь синий журавлик и золотой дарят мне искренность и постоянство
Сколько бы я ни прожил в этом мире я проживу дольше чем этот мир
Вылепил телом я звездную глыбу где шестеренки лучей тело мое высотой щекочут из голубого огня
Обтекаю галактику селезенкой я улиткой звездной вполз в себя медленно волоча за собой вихревую галактику как ракушку
Звездный мой дом опустел без меня
Это тоже выворачивание момента. Это не все свойства, но главное свойство метаметафоры – эта неожиданная переориентация, при которой не просто человек внутри космоса, но одновременно и космос внутри человека оказывается. Самое удивительное, что, прожив уже достаточно большую часть своей жизни, где‑то в конце 80‑х я вот об этих вещах рассказываю в одном из клубов, уже будучи отстраненным от преподавания за эти вещи, про которые мы с вами сейчас говорим. Это считалось мистикой. Боялись всего неожиданного. К тому же вокруг меня разрослась школа. Это поэты. Поэты метаметафоры – это прежде всего Алексей Парщиков. Но это есть и у Александра Еременко. Они были моими студентами в Литинституте. Но к ним примкнул и уже окончивший МГУ Иван Жданов. Он только что Пушкинскую премию получил. Вот у Жданова есть: «Внутри деревьев падает листва…», или есть у Парщикова: «Как строится самолет, с учетом фигурки пилота, так строится небосвод с учетом фигурки удода, и это наш пятый удод». Понимаете? Неожиданное освоение внешне‑внутреннего пространства. Это могло появиться только в эпоху, как принято говорить, освоения космоса. Освоение космоса заключается не только ведь в том, что ракеты поднимаются вверх, хотя и это конечно входит.
Меняется сознание…
Да. И я про эти вещи рассказываю, и ко мне подходят и говорят: «А вы знаете, то, что вы говорите, подтверждает астронавт Эдгар Митчелл. Который на Луне был. Он приехал в СССР и говорит: смотрите – я смотрю, газета «Советская Россия», такими космологическими проблемами вроде бы не занимается. Был очень удивлен. И читаю: – Эдгар Митчелл говорит: когда я ступил на Луну и взглянул с нее на Землю, со мной произошел переворот. Что я частица космоса – но это банальность. Космос стал частицей меня». А это опять же происходит при выворачивании – я вышел к себе через навстречу от и ушел под раздвигая над – все это суммировалось. И у меня в поэзии это постоянно присутствует. Но особенно это в поэме «Компьютер любви», которую я написал в 83‑м году. Сейчас ее называют манифестом метаметафоры. Но я ее писал не как манифест, а как откровение. Как с вами сейчас говорю, там я говорю о самом интересном и важном для меня. И, надеюсь, немножко и для вас, дорогие мои слушатели.
Небо – это высота взгляда
Взгляд – это глубина неба
Боль – это прикосновение Бога
Бог – это прикосновение боли
Сон – это ширина души
Душа – это глубина сна
Человек – это изнанка неба
Небо – это изнанка человека…
Вот этот момент – метаметафора. Ну а там дальше, очень любил Вознесенский:
Прикосновение – это граница поцелуя
Поцелуй – это безграничность прикосновения
Кожа – это рисунок созвездий
Созвездия – это рисунок кожи
Расстояние между людьми заполняют звезды
Расстояние между звездами заполняют люди
Любовь – это скорость света, обратно пропорциональная расстоянию между нами (по теории относительности свет летит)
Расстояние между нами, обратно пропорциональное скорости света, это – любовь…
Это не все образы. Там есть:
Ладонь – это лодочка для невесты
Невеста – это лодочка для ладони…
Вы так потрясающе читаете! А вы ведь из театральной семьи. Ваш папа…
Ученик Мейерхольда.
Режиссер, ученик Мейерхольда. А мама – актриса. Наверное, как‑то через родителей передалось. Вы потрясающе передаете текст.
Вы знаете, какая-то мистика все‑таки существует в этом мире. Потому что фамилия моей мамы, уже по третьему ее супругу, – Кедрова. И когда я познакомился с Юрием Петровичем Любимовым, уже сравнительно поздно, в 99‑м году… С ним у нас было множество великолепных дел, в частности, моя мистерия «Сократ/Оракул», которая вошла в репертуар Таганки, была поставлена в Афинах, у Парфенона. Я до сих пор не могу – может, мне это приснилось? Может, это сказка. Это ж чудо какое‑то! А он так смотрит на меня (показывает, как): «А вы ведь сын моего учителя». Михаил Кедров – ученик Станиславского и учитель Юрия Петровича Любимова. Я говорю: «Юрий Петрович, да ничего подобного. Мой папа – действительно режиссер. Но не Кедров». – «А может, все‑таки?» И я недавно смотрю в интернете – портрет Михаила Кедрова и мой, их рядом так поставили. Ну, похож. Все люди друг на друга похожи (смеются). Какая‑то мистика в этом присутствует.
Это просто однофамилец был какой‑то?
Это Михаил Кедров – знаменитейший режиссер. Учитель Юрия Петровича Любимова. Но Юрий Петрович так в душе, мне кажется, и не верил.
А смотрите, как интересно получается. «Бесконечную» вы написали в 18 лет. Сам термин метаметафора появился гораздо позже.
Ну, где‑то... в 84‑м году я опубликовал к гениальной поэме «Новогодние строчки» Леши Парщикова, тогда еще будучи преподавателем Литературного института: метаметафора Алексея Парщикова. Где я сказал: «Привыкайте к метаметафоре, она бесконечно раздвинет пределы вашего зрения». Там такие у него образы: «Дельфин – это только море». Или вот у меня было такое стихотворение. Мы с Лешей были в Крыму, он очень зазывал нас с Леной, моей супругой, а он с Олей Свибловой, его супругой, в Крым. Там я написал стихотворение, которое заканчивалось словами:
море велосипедных колес
велосипедное море колес
У Парщикова – позднее, в поэме «Новогодние строчки»:
А что такое море? – это свалка велосипедных рулей (ну, так волны набегают), а земля из-под ног укатила…
Видите, метаметафора – это что‑то живое. Это не то, что там из башки. Это – отсюда (прикладывает руку на сторону сердца).
Я вот о чем подумал. Я вспомнил слова Эйнштейна, который говорил, что все понял и дальше искал только, как это доказать.
Совершенно верно. Он мысленно за световым лучом полетел в объектив фотоаппарата и стал представлять, а что будет. Будет то, что в Теории относительности. И, кстати, знаете, в 18, 20 лет я ведь больше дружил со своими одноуниверситетниками – физиками и математиками, чем с филологами. По‑моему, филологи ужасно отстали. Они не знают Теорию относительности. А Теорию относительности надо знать, ведь там время сжимается до нуля. Что такое ноль времени? Если мчать со скоростью света на фотоне несущемся – время равно нулю.
Так, может быть, дух божий, который носился, это как раз то самое?
Да. И ведь в Библии так и сказано, начинается с чего сотворение мира? И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. Или вот все говорят – палиндром, это что такое, строка читается справа налево и слева направо. Да, друзья моя, строка читается слева направо и справа налево одинаково. Но ведь мир, как вот только недавно выяснилось, на микроуровне полиндромичен. Если электрон, отсюда запускаемый, мчится до Владивостока, он возвращается обратно волной. То есть на уровне микромира время обратимо. А еще Хлебников называл палиндром перевертень, что когда строка читается слева направо и справа налево – это движение времени, это вечность (пальцем рисует в воздухе восьмерки, знак бесконечность). Охватывается объем вечности. Например, вот я горжусь очень палиндромом: Ещь циник Ницше. Игра, конечно. Искусство – вообще игра. Все игра. Да и мир наш...
Божественная игра.
Божественная игра. Конечно.
Вы называете Хлебникова величайшим поэтом XX века.
Несомненно. Он давал и дает мне столько! Ни один поэт мне столько не дал. Правда, конечно, еще Маяковский. Он меня заразил своей энергией. Вот даже в 16 лет я пишу:
Любимая спит. Ей снятся ландыши
А может быть я обескровленным маком
Наши души играют в ладушки
Мой сосед коллекционирует марки.
Ты видишь к тебе устремились здания
Синие лошади в снежном мыле
А я на крыше живой или раненый
Твой Дон-Кихот на кирпичной кобыле
Это ж Маяковский, конечно, там бурлит. Я даже жалею, с годами ушла эта энергетика во мне.
Ну не знаю, не знаю…
Нет?
Я поражаюсь вашей энергии.
А вот еще было стихотворение, которое мне здорово в житейском плане испортило жизнь, а на самом деле втолкнуло меня тоже в правильную колею.
По комнате бродит медведь тишины
Я заброшен сюда из другого светлого века
мне смешно когда четыре стены
на одного свободного человека
Нет я не строил клетку из кирпичей
Это не я придумал замазывать солнце стеклом
Люди, хотите я позову врачей
и они прикажут разрушить каменный дом
А я… я заброшен сюда из другого светлого века
для меня ваше здание – каменное ничто
Мне смешно,
когда на одного свободного человека
надевают железное и каменное пальто
Боже мой (далее говорит официальным голосом), в то время как мы каждому молодожену отдельную квартиру через 25 лет, а молодой поэт вместо того, чтобы помогать нам строить коммунизм, хочет разрушить наши здания. Дебилизм такой. И все. На 25 лет меня отлучили.
Это вообще удивительная вещь – у вас первая книга вышла в 45 лет.
Да. И то – с каким боем, вы не представляете. Тут предисловие было Вознесенского. Он пишет… До сих пор не могут критики успокоиться. Он написал, назвал меня Иоанном Крестителем новой метафоричности. И это книга за свой счет. Все, что у меня было накоплено, 10 тысяч за всю преподавательскую деятельность, тогда уже инфляция бешенная…
Это 90‑й год?
90‑й год. Уже все это тает на глазах. Сначала шесть тысяч стоило, а у меня на книжке – 10 тысяч. Пока я дошел до «Художественной литературы», это уже стало стоить 10 тысяч. Но я все равно не жалею. Я издал этот сборник.
То есть кто‑то на эти последние тающие сбережения поспешил купить машины, а кто‑то, друзья мои, издавал свой первый поэтический сборник в 45 лет… Правильно ли я понимаю, что если искать истоки метаметафоризма, то это Серебряный век, это футуристы в первую очередь?
Конечно. И вообще неправильное представление, это все выдумали догматики. Я уважаю все взгляды. Любые. Но это догматики придумали деление – авангардисты, неавангардитсы. Ну какой Маяковский авангардист‑неавангардист? он прежде всего гений. А потом уже все остальное. Есенин. Ну что мы сейчас будем – имажинист‑неимажинист. Имажинизм – тоже футуризм. Гений прежде всего. Это ж было прервано искусственно. Это же не самой собой снова перешли на такую тихую, тихую поэзию. Я не против тихой поэзии. Я сам люблю тихие, спокойные, как принято у нас говорить, – классические <стихи>. Хотя тот же самый авангард, футуризм – тоже уже стали классикой.
Конечно.
Вы знаете, я выступал в Сорбонне. Дважды. Прямо скажу, под овации. Я знаком со всеми поэтами мира, более‑менее значительными. Слушайте, ничего близкого к мощи русской поэзии – не подумайте, что это какой‑то косный патриотизм – нет. Это чудо. Это уникально. И это надо всячески нежить, холить, выращивать. И не говорить, что был какой‑то авангард, а вот какая‑то классика. Все классика. И Пушкин был когда‑то авангард.
В разных фазах все – сегодня это авангард, завтра – классика.
Ну, разумеется.
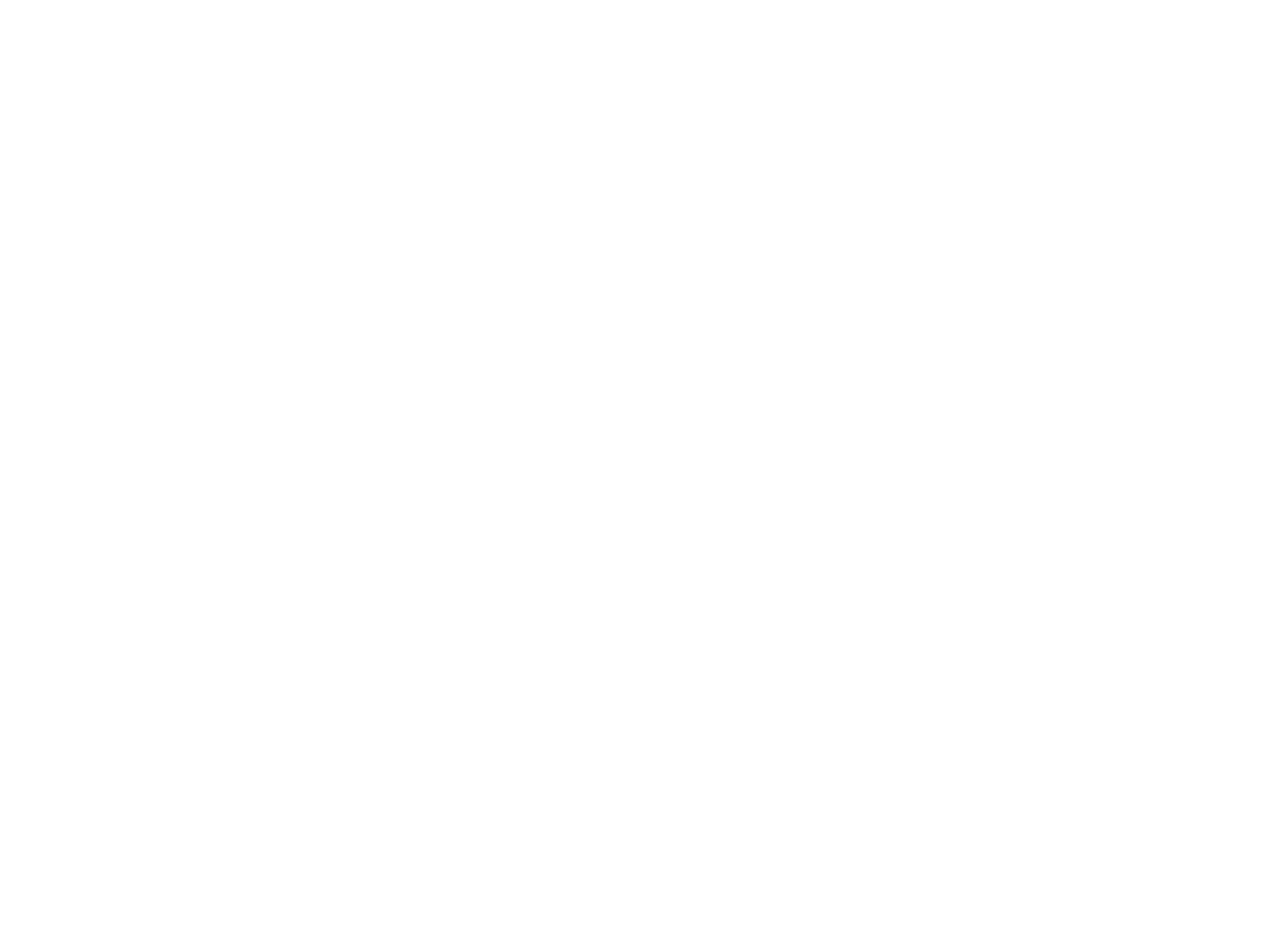
Я уверен, вы не согласны, но есть такое мнение, что авангард – это то, что быстрее всего устаревает. Вот интересно что вы на это ответите.
Хотя бы один пример. Я не знаю ни одного случая. Что устарело у Маяковского?
Багровый и белый (почти скандирует) отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.
Что тут устарело?
Лучше ответа и не найти.
Молодость устарела? Энергия?
А как вообще, авангард – новое, прогрессивное искусство? Есть же формула Экклезиаста, что нет ничего нового, что новое – это хорошо забытое старое. Как это новое рождается? Действительно где‑то находится в том, что уже было?
Это правда. Это гениальные слова Экклезиаста. Нет ничего нового под солнцем. Если тебе скажут: это новое – не верь. Новое – это старое. Но давно забытое. Да. Как только совершается открытие, вдруг все вспоминают: было это. Я так вспомнил Шекспира, когда метаметафору открыл. Открытие – да, считайте, в 60‑м году пришла метаметафора. Но открытие открытием, а у Шекспира есть такие слова, в «Ромео и Джульетте»:
Идешь ты против неба и земли,
а небо и земля в тебе самом.
Это что, не метаметафора? Это у Шекспира не доминирует так, как это вырвалось на поверхность во второй половине XX века.
А там же, в «Ромео и Джульетте»: «Так поздно, что, пожалуй, рано». Тоже метаметафора?
Пожалуй, да. Да мало ли у него. Например, Ромео говорит Джульетте: «Встань у окна, затми луну сияньем». Это можно воспринять как комплимент. Но это не просто комплимент. Или когда Джульетта говорит: «Ромео, я так тебя люблю, что готова разорвать твое тело на тысячи звездных осколков». Ромео превратился в небо.
Слушайте, вы сейчас так прочитали, что действительно – как строчка футуристов.
Ну да. Вероятно, во времена Шекспира еще не могли так прочесть. Хотя это написано так.
Ну вот поэтому Шекспир велик.
Да. И в искусстве есть прогресс, есть движение в искусстве. Но всегда оно уходит корнями в тысячелетия. И слова в Новом завете, вот суть метаметафоры: «Для бога один день как тысяча лет. И тысяча лет как один день». Это Теория относительности. И это метаметафора. Мне немного жалко людей, которые не приобщены к этому богатству. Неважно, через физику, через поэзию, через космологию, через философию.
Через религию.
Через религию! Но идите к этому свету! Нельзя же все время: плоская земля и солнце вокруг земли. Оглянитесь вокруг. Посмотрите, какие распахиваются горизонты.
Заканчивая эту тему, потому что она, конечно, огромная, можно ее только прервать, как ремонт. Мне с прозой как‑то проще, так что такой вот вопрос. Был такой Джеймс Джойс, первооткрыватель потока сознания. Дальше – практически весь XX век, ну, добрая его половина, это, собственно, ученики Джойса. Но. Джойс остается для небольшого клуба профессионалов. А сливки с этих открытий снимают уже более понятные авторы. Прекрасные, но более понятные.
Я скажу так. Понимаете, открытие Джойса – сам по себе этот роман читать замаешься. Замаешься еще почему – мы же не знаем Дублина. А там же каждый его переулочек. Вот для нас, когда читаешь, допустим, Андрея Белого – Москва. Но для москвича‑то все понятно, каждый переулочек, каждый изгибчик. А для Джойса эти его путешествия по Дублину – надо знать этот Дублин. Потом надо знать все эти пословицы, ирландские, английские, на которых там игра идет, фольклор ирландский. Дальше он там Катехизис перефразирует все время к месту и не к месту. Он же у иезуитов учился. Это все надо знать, чтобы этим насаждаться и все такое. Но. Само открытие этого потока – да, этим пользуются все современные прозаики. Потому что только внешне кажется, что он, поток, хаотичный, то, что в голову взбредет. Так ведь в голову взбредает то, что важно. То, что кристаллизуется. И, конечно, мой гениальный – мне везет на гениальных друзей: Любимов, Вознесенский, Евтушенко, Милорад Павич. Вот Павич – он, конечно, ученик Джойса во многом. Он ученик Джойса, ученик Борхеса. Несомненно. В 2007‑м он говорил мне: «Вот ведь какая беда, раньше я все наизусть знал, и все, что мне приходило ночью в голову, я утром встал и записал. А теперь‑то приходится включать свет. Потому что утром я уже ничего этого не помню». Я очень хорошо это понимаю.
Сны Павича. А Парщиков был, к сожалению, рано ушедший…
53 года
Был один из ярчайших представителей…
Да ну что вы – гений!
Гений.
Конечно. Я это сразу понял. Как сейчас помню. 74‑й год. Я защитил кандидатскую диссертацию для того, чтобы преподавать. Преподаю в Литературном институте. После лекции всегда народу битком. И я выхожу, а мне навстречу, как Зоя Космодемьянская (разводит руки во всю ширь) и как на картине «Не пущу» передвижника Оля Свиблова: «Вы должны прочитать моего мужа». И дает мне (книжку).
К вам так, наверное, подходили каждый день.
Где ж гениев‑то наберешь. Вот он привел Еременко.
Я смотрю на тебя из настолько глубоких могил…
Одной этой строчки! А потом Еременко напишет:
Пролетишь, простой московский парень,
Полностью, как Будда, просветленный.
На тебя посмотрят изумленно
Рамакришна, Кедров и Гагарин.
Попытались заменить (улыбаются).
Да, потом на Дне поэзии появляются строки, там вместо Кедров – Келдыш. Но потом, когда советская власть закончилась, Саша все исправил – опять Кедров. Вот так со мной боролись.
Вот такой, друзья мои, у нас сегодня гость.
Константин Александрович, в этот год много, много потерь. Евгений Евтушенко ушел, Андрей Волохонский, Кирилл Ковальджи. Вот с Евгением Евтушенко какие у вас были отношения?
Вы знаете, это что‑то удивительное. Я, конечно, дружил‑то пламенно прежде всего с Андреем Вознесенским. Мы поздно сдружились, начиная с 84‑го года, а окончательно сдружились в 88‑м году. Когда он провел вечер «Минута немолчания». По ненапечатанным стихам. (30:36). Во дворце молодежи. На меня ж дело заведено – антисоветская пропаганда и агитация. Вот то, что мы с вами говорим, – это антисоветская агитация.
Да, вы там проходили как лесник.
Лесник! Господи, сумасшедшие.
Кедров, кедр – это как‑то так, что ли?
Может, Кедров, может, у них Литинстиут как лес обозначен был. А может, мой прадедушка, Федор Сергеевич Челищев, калужский помещик, отец гениального Павла Челищева, художника, может, это на них повлияло.
А, он леса же разводил там.
Да, да. А Приставкин у них проходил как шелкопер. А Тарковский у них проходил как паяц. Сумасшедшие. Ну вот. Дружил‑то я прежде всего с Вознесенским. И понимал он меня до глубины. Я сейчас вот просмотрел стихи, которые он про меня написал – все очень продуманно. До удивления. Ничего спонтанного. А Евтушенко – как‑то он так говорил: «Этот ваш Вознесенский…» Потому что они на ножах были. Тем не менее он позвонил мне. Я в это время был литературным обозревателем «Известий». И сказал: «Я очень хочу, чтобы вы написали о моей повести „Лодка". Все, что хотите – критика, не критика. Мне просто очень интересно ваше мнение». Я повесть эту прочитал. Потом после этого он звонит и говорит: «Придите на мой вечер. Я вам хочу надписать книгу свою новую, только что вышедшую». А он приехал из Америки. Ему там скучно было, бедному. Конечно, он тосковал по родине. Все русские тоскуют по родине. Как говорят: уезжаю тосковать по родине. Это и понятно. Как не тосковать. Россия настолько уникальна, настолько неповторима действительно. Ее все время не хватает, как только уезжаешь. А он там в маленьком городке. И вот он по газетам знакомится с трагическими событиями 93‑го года – Белый дом, стрельба. И на этом вечере – он позвал, я пришел – он говорит: «Нет, вам книгу не дам, вот вам место в первом ряду, садитесь, потом, после вечера – дам». Я весь вечер слушаю, он читает. Ну, он искренние пишет стихи, придумал какую‑то американскую журналистку, которую якобы подстрелили, еще там не то слезинка, не то соплинка. Ну, в общем, не попадает, что называется. Но я прослушал весь вечер. Потом подхожу, он говорит: «Нет, вот сейчас я сделаю автограф – а он автографы писал по полстраницы, целый час. – А сейчас мы поедем к моему другу, Савва Кулиш». В общем, сидим, выпиваем, где‑то в два часа ночи я говорю: «Женя, я не могу уже больше с тобой». – «А где вы живете?» – «На метро „Варшавская"». – «Дак я же сейчас вас отвезу». У него шофер есть. Едем. Подъезжаем к моей девятиэтажке на улице Артековская. «Это что, вы здесь живете». – «Да, здесь живу». – «А я хочу посмотреть, как вы живете». Ну, я польщен: «Пожалуйста. Только у меня маленькая однокомнатная квартирка, уж не обессудьте». Открываю дверь – а там стоит так тумбочка, а на тумбочке стоит вино. «Черные глаза». 94‑й год. Он говорит: «О-о-о, это ж вино моей юности». – «Да пожалуйста, сейчас мы сядем у окна, разопьем». Сидим у окна, распиваем «Черные глаза», он читает свои стихи, я ему – свои. Все замечательно. И вдруг – это лето – под окнами начинается дикий грохот соловья. Грохот! Не пение, а грохот – какие‑то рулады, сверхрулады. Там оставался малюсенький, по Чехову, кусочек вишневого сада, который бульдозером сносили, сносили и никак снести не могли. Там строили школу для дебилов на этом месте. Вот остался малюсенький кусочек, и там грохотал соловей. На него это произвело такое гигантское впечатление!
А теперь все забудем, что я сейчас рассказывал. Это 94‑й год.
Хотя вот эта история очень характеризует Евтушенко, мне кажется. Его характер, личность.
Конечно! Но это не все. Проходит время, конгресс литераторов. Уже сейчас, 2016‑й год. В президентском санатории в Соснах. Посвящен он кино. Евтушенко приезжает на этот конгресс. Он уже умирает фактически, это декабрь прошлого года. Это, конечно, подвиг: в таком состоянии, нога отрезана, онкология по всему телу. И он приезжает и делает доклад. А мы с Леной, поэтессой Еленой Кацубой, сидим. И он вдруг прерывает доклад и нам: «Костя! Лена! Простите меня, я же вас не узнал! Ты же был с бородой, а теперь ты с гвардейскими усами. Подойди сюда, прими мое объяснение пламенное в любви». Он надписывает… а все совершенно ошалелые сидят, ну, конгресс идет…
А это, по сути, ваша вторая встреча личная.
В том‑то и дело. До этого пересекались где‑то в театре Любимова: здрасьте – здрасьте. Он не узнавал меня, кажется. Я обижался вусмерть, просто вусмерть. Я обижался и там, на конгрессе. Он не узнавал. И пишет огромную такую (надпись): «Простите меня ради бога. У меня что‑то с памятью зрительной, но не с памятью сердца. Ты же спас меня от огромной беды своими соловьями!» Уже потом, после конгресса, как обычно, застолье. И он опять: «Ты спас меня от огромной беды». Все спрашивают, от какой? – «Пусть это остается тайной». Заканчивается конгресс. Через несколько дней он уезжает. Но у него пресс‑конференция в магазине «Москва». А я живу как раз напротив. Я говорю: «Я приду». – «Да, пожалуйста, приходи». Приходите – мы так на вы и остались. Приходим с Леной, там толпа желающих получить автограф. Это уже где‑то 26‑го числа.
Он по‑прежнему такие длинные пишет автографы?
Огромные. Длинные. Когда он появляется, кричит: «Костя. Ты здесь!» И дальше начинаются совсем уже поразительные вещи. Он жалуется на фильм, какая‑то страсть...
А, это по Аксенову сейчас сериал был. «Таинственная страсть».
Говорит: «Ну, слушайте, друзья мои, ну зачем же это. Ну зачем же. Белла мне говорит: ты трус. Но как это может быть? Мы дружили. Она была на всех моих свадьбах. Костя, скажи, это могло быть? Потом: там написано, что я чуть ли не в командировку еду на Кубу чуть ли не по поручению Андропова. Да Кастро – мой друг. А там я болтаюсь чуть ли не с микрофоном под мышкой. И т. д. Костя, ну скажи ты им!» И потом опять: «Ты спас меня от самоубийства своими соловьями. В ту ночь я хотел покончить с собой. Руки на себя наложить. Меня так затравил Бродский в Америке». Ну, что было, то было. Вот понимаете, сошлись два разных мира. Значит, он в ту ночь хотел покончить с собой, и мой соловей спас его. Это все записано.
Удивительная история. Просто сюжет для рассказа Сэлинджера.
А он хотел это вставить в роман. Он сказал: «Я ж пишу сейчас роман биографический». Последние его слова: «Я хочу закончить роман своей жизни. Я хочу, чтобы все всё знали». Не знаю, успел ли он все это записать. Это в автографе у него написано: «Спас от большой беды». Ну, с Бродским вот так получилось.
Константин Александрович, скажите, сейчас в связи с уходом Евтушенко было много хороших слов сказано. Но, к сожалению, было много и таких слов, которые уже не говорят об ушедшем человеке. Вот на ваш взгляд. Можете назвать два‑три главных его поступка?
Я и писал об этом неоднократно. В «Известиях», когда был литературным обозревателем. Он еще говорил: «Ты не представляешь, как ты мне помог своими статьями». Между нами даже спор был на конгрессе, на предыдущем. Он говорил: «Вот ты говоришь, что поэт должен быть независим. Сам по себе. А ты же вот работал в государственной газете». Он ошибается, я работал в «Известиях» уже негосударственных. Ну, это ладно. «И ты так мне помогал своими статьями». А что я помогал? Я писал то, что было на самом деле. Евтушенко – это единственный поэт, который повлиял на ход российской и мировой истории своими стихами. Ну, можно говорить о приходе лирики, когда он писал:
Постель была расстелена,
А ты была растеряна.
Ты спрашивала шепотом:
«А что потом…»
Набросились – все. Но пришла человеческая тематика. Человеческая интонация пришла. Лирика вернулась после Есенина наконец‑то в русскую поэзию. А его так называемые политические стихи – «Наследники Сталина».
Иные наследники розы в отставке стригут,
но втайне считают, что временна эта отставка.
…
И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою:
удвоить, утроить у этой плиты караул,
чтоб Сталин не встал и со Сталиным – прошлое.
И когда он пишет:
Хотел он запомнить всех тех, кто его выносил,
Орловских и курских…
Понимаете. Мороз по коже. И он тогда остановил сталинизацию. Он остановил. Потом Хрущева сняли, и снова началось это. И он рисковал очень сильно. Потому что Хрущев тогда руль поворачивал к сталинизму. Явно. Власть ускользала, и он…
Ну, собственно, и был сталинским соколом сам.
Да, конечно. Это парадокс такой: сталинизм, боровшийся со сталинизмом. Отсюда парадоксальность его поведения. А второе его стихотворение было в Киеве, на том месте, где расстреляны были десятки тысяч евреев, цыган и русских. Ну, в основном, евреев, конечно. И земля подгнила и провалилась в этом месте. Там, видите ли, жилой район они стали строить на этом месте. Кощунство, конечно. Еще слишком мало времени прошло. Не XVI‑й же век, только что, родственники все живы. Провалилось все это. И он написал:
Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно. Мне сегодня столько лет,
Как самому еврейскому народу.
…
Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
Я всем антисемитам, как еврей,
И потому —я настоящий русский!
Что тут началось! Но воздух стал чище. Дышать стало легче. Понимаете, когда приходит человек и говорит: небо – голубое, трава – зеленая, черное – это черное, а белое – это белое. И сразу всем хорошо становится. И лучше. Ну и третье стихотворение, когда страна… ну, мы все ждали перемен каких‑то. Никто не был врагом страны. Никто не хотел, чтобы Советский Союз развалился. Или социалистический лагерь чтобы развалился. Нет. Мы хотели человеческих нормальных перемен. Чтобы была свобода высказывания, свобода мысли. Мне, например, совершенно наплевать – капитализм, некапитализм, коммунизм, марксизм. Важно, чтобы человеческое было, чтобы человека не гнобили. Как сказал Андрей Вознесенский: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек».
Вот и все. Чтобы человек не рушился. И в Чехословакии. Ну да, этим пользовались и враги наши. Понятно. Но все‑таки там начиналось оздоровление. Появилась надежда на социализм с человеческим лицом. И вдруг мы такую глупость сделали. Страну, которая на нас, можно сказать, молилась, население к нам относилось с любовью. И вдруг мы туда вперли зачем‑то танки. Не надо, конечно, было этого всего безобразия делать. И он пишет:
Танки идут по Праге.
Танки идут по Арбату.
Танки идут по солдатам.
Сидящим в этих танках.
Ну точнее‑то ведь не скажешь!
Да-а-а-а.
Ведь точнее‑то не скажешь! Многие роковые события в стране в 91‑м году, и в 93‑м, их бы не было, если бы не было танков, идущих по Праге. Ошибки. Роковые. Одна за другой. Вот три стихотворения. Они сняли камень с наших сердец, с наших душ. Потому что мы не имели возможности высказаться. Кто высказался, тех в тюрьму посадили, в психушку кинули.
Собственно, он тоже рисковал.
Не то слово!
Я к тому, что у многих, наверное, такое представление, что у него был какой‑то карт-бланш, мог себе позволить все, что угодно.
Да ничего.
Вот-вот.
Ничего подобного. Не было карт-бланша. А сколько раз он исчезал. После каждого из этих стихотворений он исчезал вообще из поля зрения. Нету такого и все. Нет такого. Так что я перед этим человеком мысленно, в хорошем смысле слова, на коленях. Я понимаю, что он сделал для страны и для человечества очень и очень многое. Это великий человек. А то, что он любил пестрые рубашки, зеленые носки носил… Его спросили: «А почему вы так пестро одеваетесь?» А он говорил: «У меня было такое серое детство. Все в фуфайках, в робах, в зековках». Как хорошо сказал.
Ну а потом, кажется, у всех бывают слабые стихи. Но поэта надо судить по его достижениям.
Он сам мне сказал. Что ж вы думаете, я самодовольно считаю, вот у него такая книга, что там все хорошее? Во‑первых, не бывает, чтобы все – только хорошее. А во‑вторых, ну что ж, как Любимов говорил: «Я, конечно, мечтаю поставить гениальный спектакль. Но ведь может не получиться». И не нанимался ни один поэт писать только хорошие стихи. Если среди вас есть люди, которые твердо уверены, что все, что они делают, – хорошо, я им искренне завидую. Так не получается.
Мне кажется, это наша не очень хорошая черта, когда выискиваем плохое вместо того, чтобы судить по вершинам.
Завидуют. Ну как же – весь мир его знает. Да. Весь мир его знает. Вот я в Южной Корее премию Манхэ получал. Похвастаюсь – единственный из европейских, единственный из русских поэтов, получивший вот эту буддийскую премию. <спросишь их> «Кого вы знаете из русских поэтов?» – Маяковский. Ахматова. Пастернак. Евтушенко. Но знают! В Южной Корее! Везде знают Евтушенко. И знают по его великим поступкам. А не по тому, что он где‑то там, может быть, подсюсюкнул властям. Власть… это ж тоже люди. Плохие люди. Хорошие…
Это вообще такая тема – где власть начинается. Мы все, каждый – чуть‑чуть власть.
В том‑то и дело! И думаю, лучше всего сказал про это Державин:
О добродетелях Фелицы возгласить…
А дальше идут слова гениальные:
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям с улыбкой говорить.
Я не скажу, что он с улыбкой говорил. Он говорил жестко. Но говорил. Истину царям говорил.
Спасибо вам большое за эти слова о Евгении Евтушенко. А с Андреем Вознесенским вы вообще просто дружили?
Ну это гений! Это супергений! Я сказал, что XX век начался гением Маяковского, а завершился гением Андрея Вознесенского. Причем существует какая‑то глупость, что якобы Андрей Вознесенский в конце жизни писал хуже, чем в начале.
Такое есть, да. Расхожее мнение уже стало.
Это такая чепуха! Вот он мне принес книгу «Возвратитесь в цветы». Уже название – гениальное. И заканчивается эта поэма такими словами:
Живите искренне. Живите ирисно!
Возвратитесь в цветы!
Я ему ответил сразу. Я никогда не пишу на тематику. Но тут – из сердца.
«Возвратитесь в цветы», – говорит Вознесенский.
Возвратимся, Андрюша, и я, и ты.
А когда возвратимся,
то вновь возродимся.
Или в нас возродятся цветы.
Нам нельзя возвращаться в тюльпаны и маки.
Горл бутона готовы
И еще не известные монстры Ламарка
Вырастая из горл,
воплощаются в слово.
Мы прошли по земле
как Христос по воде,
Оставляя лилий следы.
Мы прошли по земле
и остались в земле,
Как в земле остаются сады.
Семена наших душ
опадут по росе.
И слезами осыплется сад.
А над нами на небе другие сады
Звезды гроздьями света висят.
Я ему это прочитал по телефону. И он расплакался. Сказал… ну, не буду говорить все, что он сказал…
Да, это личное уже.
Расплакался…
Хотя бы один пример. Я не знаю ни одного случая. Что устарело у Маяковского?
Багровый и белый (почти скандирует) отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.
Что тут устарело?
Лучше ответа и не найти.
Молодость устарела? Энергия?
А как вообще, авангард – новое, прогрессивное искусство? Есть же формула Экклезиаста, что нет ничего нового, что новое – это хорошо забытое старое. Как это новое рождается? Действительно где‑то находится в том, что уже было?
Это правда. Это гениальные слова Экклезиаста. Нет ничего нового под солнцем. Если тебе скажут: это новое – не верь. Новое – это старое. Но давно забытое. Да. Как только совершается открытие, вдруг все вспоминают: было это. Я так вспомнил Шекспира, когда метаметафору открыл. Открытие – да, считайте, в 60‑м году пришла метаметафора. Но открытие открытием, а у Шекспира есть такие слова, в «Ромео и Джульетте»:
Идешь ты против неба и земли,
а небо и земля в тебе самом.
Это что, не метаметафора? Это у Шекспира не доминирует так, как это вырвалось на поверхность во второй половине XX века.
А там же, в «Ромео и Джульетте»: «Так поздно, что, пожалуй, рано». Тоже метаметафора?
Пожалуй, да. Да мало ли у него. Например, Ромео говорит Джульетте: «Встань у окна, затми луну сияньем». Это можно воспринять как комплимент. Но это не просто комплимент. Или когда Джульетта говорит: «Ромео, я так тебя люблю, что готова разорвать твое тело на тысячи звездных осколков». Ромео превратился в небо.
Слушайте, вы сейчас так прочитали, что действительно – как строчка футуристов.
Ну да. Вероятно, во времена Шекспира еще не могли так прочесть. Хотя это написано так.
Ну вот поэтому Шекспир велик.
Да. И в искусстве есть прогресс, есть движение в искусстве. Но всегда оно уходит корнями в тысячелетия. И слова в Новом завете, вот суть метаметафоры: «Для бога один день как тысяча лет. И тысяча лет как один день». Это Теория относительности. И это метаметафора. Мне немного жалко людей, которые не приобщены к этому богатству. Неважно, через физику, через поэзию, через космологию, через философию.
Через религию.
Через религию! Но идите к этому свету! Нельзя же все время: плоская земля и солнце вокруг земли. Оглянитесь вокруг. Посмотрите, какие распахиваются горизонты.
Заканчивая эту тему, потому что она, конечно, огромная, можно ее только прервать, как ремонт. Мне с прозой как‑то проще, так что такой вот вопрос. Был такой Джеймс Джойс, первооткрыватель потока сознания. Дальше – практически весь XX век, ну, добрая его половина, это, собственно, ученики Джойса. Но. Джойс остается для небольшого клуба профессионалов. А сливки с этих открытий снимают уже более понятные авторы. Прекрасные, но более понятные.
Я скажу так. Понимаете, открытие Джойса – сам по себе этот роман читать замаешься. Замаешься еще почему – мы же не знаем Дублина. А там же каждый его переулочек. Вот для нас, когда читаешь, допустим, Андрея Белого – Москва. Но для москвича‑то все понятно, каждый переулочек, каждый изгибчик. А для Джойса эти его путешествия по Дублину – надо знать этот Дублин. Потом надо знать все эти пословицы, ирландские, английские, на которых там игра идет, фольклор ирландский. Дальше он там Катехизис перефразирует все время к месту и не к месту. Он же у иезуитов учился. Это все надо знать, чтобы этим насаждаться и все такое. Но. Само открытие этого потока – да, этим пользуются все современные прозаики. Потому что только внешне кажется, что он, поток, хаотичный, то, что в голову взбредет. Так ведь в голову взбредает то, что важно. То, что кристаллизуется. И, конечно, мой гениальный – мне везет на гениальных друзей: Любимов, Вознесенский, Евтушенко, Милорад Павич. Вот Павич – он, конечно, ученик Джойса во многом. Он ученик Джойса, ученик Борхеса. Несомненно. В 2007‑м он говорил мне: «Вот ведь какая беда, раньше я все наизусть знал, и все, что мне приходило ночью в голову, я утром встал и записал. А теперь‑то приходится включать свет. Потому что утром я уже ничего этого не помню». Я очень хорошо это понимаю.
Сны Павича. А Парщиков был, к сожалению, рано ушедший…
53 года
Был один из ярчайших представителей…
Да ну что вы – гений!
Гений.
Конечно. Я это сразу понял. Как сейчас помню. 74‑й год. Я защитил кандидатскую диссертацию для того, чтобы преподавать. Преподаю в Литературном институте. После лекции всегда народу битком. И я выхожу, а мне навстречу, как Зоя Космодемьянская (разводит руки во всю ширь) и как на картине «Не пущу» передвижника Оля Свиблова: «Вы должны прочитать моего мужа». И дает мне (книжку).
К вам так, наверное, подходили каждый день.
Где ж гениев‑то наберешь. Вот он привел Еременко.
Я смотрю на тебя из настолько глубоких могил…
Одной этой строчки! А потом Еременко напишет:
Пролетишь, простой московский парень,
Полностью, как Будда, просветленный.
На тебя посмотрят изумленно
Рамакришна, Кедров и Гагарин.
Попытались заменить (улыбаются).
Да, потом на Дне поэзии появляются строки, там вместо Кедров – Келдыш. Но потом, когда советская власть закончилась, Саша все исправил – опять Кедров. Вот так со мной боролись.
Вот такой, друзья мои, у нас сегодня гость.
Константин Александрович, в этот год много, много потерь. Евгений Евтушенко ушел, Андрей Волохонский, Кирилл Ковальджи. Вот с Евгением Евтушенко какие у вас были отношения?
Вы знаете, это что‑то удивительное. Я, конечно, дружил‑то пламенно прежде всего с Андреем Вознесенским. Мы поздно сдружились, начиная с 84‑го года, а окончательно сдружились в 88‑м году. Когда он провел вечер «Минута немолчания». По ненапечатанным стихам. (30:36). Во дворце молодежи. На меня ж дело заведено – антисоветская пропаганда и агитация. Вот то, что мы с вами говорим, – это антисоветская агитация.
Да, вы там проходили как лесник.
Лесник! Господи, сумасшедшие.
Кедров, кедр – это как‑то так, что ли?
Может, Кедров, может, у них Литинстиут как лес обозначен был. А может, мой прадедушка, Федор Сергеевич Челищев, калужский помещик, отец гениального Павла Челищева, художника, может, это на них повлияло.
А, он леса же разводил там.
Да, да. А Приставкин у них проходил как шелкопер. А Тарковский у них проходил как паяц. Сумасшедшие. Ну вот. Дружил‑то я прежде всего с Вознесенским. И понимал он меня до глубины. Я сейчас вот просмотрел стихи, которые он про меня написал – все очень продуманно. До удивления. Ничего спонтанного. А Евтушенко – как‑то он так говорил: «Этот ваш Вознесенский…» Потому что они на ножах были. Тем не менее он позвонил мне. Я в это время был литературным обозревателем «Известий». И сказал: «Я очень хочу, чтобы вы написали о моей повести „Лодка". Все, что хотите – критика, не критика. Мне просто очень интересно ваше мнение». Я повесть эту прочитал. Потом после этого он звонит и говорит: «Придите на мой вечер. Я вам хочу надписать книгу свою новую, только что вышедшую». А он приехал из Америки. Ему там скучно было, бедному. Конечно, он тосковал по родине. Все русские тоскуют по родине. Как говорят: уезжаю тосковать по родине. Это и понятно. Как не тосковать. Россия настолько уникальна, настолько неповторима действительно. Ее все время не хватает, как только уезжаешь. А он там в маленьком городке. И вот он по газетам знакомится с трагическими событиями 93‑го года – Белый дом, стрельба. И на этом вечере – он позвал, я пришел – он говорит: «Нет, вам книгу не дам, вот вам место в первом ряду, садитесь, потом, после вечера – дам». Я весь вечер слушаю, он читает. Ну, он искренние пишет стихи, придумал какую‑то американскую журналистку, которую якобы подстрелили, еще там не то слезинка, не то соплинка. Ну, в общем, не попадает, что называется. Но я прослушал весь вечер. Потом подхожу, он говорит: «Нет, вот сейчас я сделаю автограф – а он автографы писал по полстраницы, целый час. – А сейчас мы поедем к моему другу, Савва Кулиш». В общем, сидим, выпиваем, где‑то в два часа ночи я говорю: «Женя, я не могу уже больше с тобой». – «А где вы живете?» – «На метро „Варшавская"». – «Дак я же сейчас вас отвезу». У него шофер есть. Едем. Подъезжаем к моей девятиэтажке на улице Артековская. «Это что, вы здесь живете». – «Да, здесь живу». – «А я хочу посмотреть, как вы живете». Ну, я польщен: «Пожалуйста. Только у меня маленькая однокомнатная квартирка, уж не обессудьте». Открываю дверь – а там стоит так тумбочка, а на тумбочке стоит вино. «Черные глаза». 94‑й год. Он говорит: «О-о-о, это ж вино моей юности». – «Да пожалуйста, сейчас мы сядем у окна, разопьем». Сидим у окна, распиваем «Черные глаза», он читает свои стихи, я ему – свои. Все замечательно. И вдруг – это лето – под окнами начинается дикий грохот соловья. Грохот! Не пение, а грохот – какие‑то рулады, сверхрулады. Там оставался малюсенький, по Чехову, кусочек вишневого сада, который бульдозером сносили, сносили и никак снести не могли. Там строили школу для дебилов на этом месте. Вот остался малюсенький кусочек, и там грохотал соловей. На него это произвело такое гигантское впечатление!
А теперь все забудем, что я сейчас рассказывал. Это 94‑й год.
Хотя вот эта история очень характеризует Евтушенко, мне кажется. Его характер, личность.
Конечно! Но это не все. Проходит время, конгресс литераторов. Уже сейчас, 2016‑й год. В президентском санатории в Соснах. Посвящен он кино. Евтушенко приезжает на этот конгресс. Он уже умирает фактически, это декабрь прошлого года. Это, конечно, подвиг: в таком состоянии, нога отрезана, онкология по всему телу. И он приезжает и делает доклад. А мы с Леной, поэтессой Еленой Кацубой, сидим. И он вдруг прерывает доклад и нам: «Костя! Лена! Простите меня, я же вас не узнал! Ты же был с бородой, а теперь ты с гвардейскими усами. Подойди сюда, прими мое объяснение пламенное в любви». Он надписывает… а все совершенно ошалелые сидят, ну, конгресс идет…
А это, по сути, ваша вторая встреча личная.
В том‑то и дело. До этого пересекались где‑то в театре Любимова: здрасьте – здрасьте. Он не узнавал меня, кажется. Я обижался вусмерть, просто вусмерть. Я обижался и там, на конгрессе. Он не узнавал. И пишет огромную такую (надпись): «Простите меня ради бога. У меня что‑то с памятью зрительной, но не с памятью сердца. Ты же спас меня от огромной беды своими соловьями!» Уже потом, после конгресса, как обычно, застолье. И он опять: «Ты спас меня от огромной беды». Все спрашивают, от какой? – «Пусть это остается тайной». Заканчивается конгресс. Через несколько дней он уезжает. Но у него пресс‑конференция в магазине «Москва». А я живу как раз напротив. Я говорю: «Я приду». – «Да, пожалуйста, приходи». Приходите – мы так на вы и остались. Приходим с Леной, там толпа желающих получить автограф. Это уже где‑то 26‑го числа.
Он по‑прежнему такие длинные пишет автографы?
Огромные. Длинные. Когда он появляется, кричит: «Костя. Ты здесь!» И дальше начинаются совсем уже поразительные вещи. Он жалуется на фильм, какая‑то страсть...
А, это по Аксенову сейчас сериал был. «Таинственная страсть».
Говорит: «Ну, слушайте, друзья мои, ну зачем же это. Ну зачем же. Белла мне говорит: ты трус. Но как это может быть? Мы дружили. Она была на всех моих свадьбах. Костя, скажи, это могло быть? Потом: там написано, что я чуть ли не в командировку еду на Кубу чуть ли не по поручению Андропова. Да Кастро – мой друг. А там я болтаюсь чуть ли не с микрофоном под мышкой. И т. д. Костя, ну скажи ты им!» И потом опять: «Ты спас меня от самоубийства своими соловьями. В ту ночь я хотел покончить с собой. Руки на себя наложить. Меня так затравил Бродский в Америке». Ну, что было, то было. Вот понимаете, сошлись два разных мира. Значит, он в ту ночь хотел покончить с собой, и мой соловей спас его. Это все записано.
Удивительная история. Просто сюжет для рассказа Сэлинджера.
А он хотел это вставить в роман. Он сказал: «Я ж пишу сейчас роман биографический». Последние его слова: «Я хочу закончить роман своей жизни. Я хочу, чтобы все всё знали». Не знаю, успел ли он все это записать. Это в автографе у него написано: «Спас от большой беды». Ну, с Бродским вот так получилось.
Константин Александрович, скажите, сейчас в связи с уходом Евтушенко было много хороших слов сказано. Но, к сожалению, было много и таких слов, которые уже не говорят об ушедшем человеке. Вот на ваш взгляд. Можете назвать два‑три главных его поступка?
Я и писал об этом неоднократно. В «Известиях», когда был литературным обозревателем. Он еще говорил: «Ты не представляешь, как ты мне помог своими статьями». Между нами даже спор был на конгрессе, на предыдущем. Он говорил: «Вот ты говоришь, что поэт должен быть независим. Сам по себе. А ты же вот работал в государственной газете». Он ошибается, я работал в «Известиях» уже негосударственных. Ну, это ладно. «И ты так мне помогал своими статьями». А что я помогал? Я писал то, что было на самом деле. Евтушенко – это единственный поэт, который повлиял на ход российской и мировой истории своими стихами. Ну, можно говорить о приходе лирики, когда он писал:
Постель была расстелена,
А ты была растеряна.
Ты спрашивала шепотом:
«А что потом…»
Набросились – все. Но пришла человеческая тематика. Человеческая интонация пришла. Лирика вернулась после Есенина наконец‑то в русскую поэзию. А его так называемые политические стихи – «Наследники Сталина».
Иные наследники розы в отставке стригут,
но втайне считают, что временна эта отставка.
…
И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою:
удвоить, утроить у этой плиты караул,
чтоб Сталин не встал и со Сталиным – прошлое.
И когда он пишет:
Хотел он запомнить всех тех, кто его выносил,
Орловских и курских…
Понимаете. Мороз по коже. И он тогда остановил сталинизацию. Он остановил. Потом Хрущева сняли, и снова началось это. И он рисковал очень сильно. Потому что Хрущев тогда руль поворачивал к сталинизму. Явно. Власть ускользала, и он…
Ну, собственно, и был сталинским соколом сам.
Да, конечно. Это парадокс такой: сталинизм, боровшийся со сталинизмом. Отсюда парадоксальность его поведения. А второе его стихотворение было в Киеве, на том месте, где расстреляны были десятки тысяч евреев, цыган и русских. Ну, в основном, евреев, конечно. И земля подгнила и провалилась в этом месте. Там, видите ли, жилой район они стали строить на этом месте. Кощунство, конечно. Еще слишком мало времени прошло. Не XVI‑й же век, только что, родственники все живы. Провалилось все это. И он написал:
Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно. Мне сегодня столько лет,
Как самому еврейскому народу.
…
Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
Я всем антисемитам, как еврей,
И потому —я настоящий русский!
Что тут началось! Но воздух стал чище. Дышать стало легче. Понимаете, когда приходит человек и говорит: небо – голубое, трава – зеленая, черное – это черное, а белое – это белое. И сразу всем хорошо становится. И лучше. Ну и третье стихотворение, когда страна… ну, мы все ждали перемен каких‑то. Никто не был врагом страны. Никто не хотел, чтобы Советский Союз развалился. Или социалистический лагерь чтобы развалился. Нет. Мы хотели человеческих нормальных перемен. Чтобы была свобода высказывания, свобода мысли. Мне, например, совершенно наплевать – капитализм, некапитализм, коммунизм, марксизм. Важно, чтобы человеческое было, чтобы человека не гнобили. Как сказал Андрей Вознесенский: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек».
Вот и все. Чтобы человек не рушился. И в Чехословакии. Ну да, этим пользовались и враги наши. Понятно. Но все‑таки там начиналось оздоровление. Появилась надежда на социализм с человеческим лицом. И вдруг мы такую глупость сделали. Страну, которая на нас, можно сказать, молилась, население к нам относилось с любовью. И вдруг мы туда вперли зачем‑то танки. Не надо, конечно, было этого всего безобразия делать. И он пишет:
Танки идут по Праге.
Танки идут по Арбату.
Танки идут по солдатам.
Сидящим в этих танках.
Ну точнее‑то ведь не скажешь!
Да-а-а-а.
Ведь точнее‑то не скажешь! Многие роковые события в стране в 91‑м году, и в 93‑м, их бы не было, если бы не было танков, идущих по Праге. Ошибки. Роковые. Одна за другой. Вот три стихотворения. Они сняли камень с наших сердец, с наших душ. Потому что мы не имели возможности высказаться. Кто высказался, тех в тюрьму посадили, в психушку кинули.
Собственно, он тоже рисковал.
Не то слово!
Я к тому, что у многих, наверное, такое представление, что у него был какой‑то карт-бланш, мог себе позволить все, что угодно.
Да ничего.
Вот-вот.
Ничего подобного. Не было карт-бланша. А сколько раз он исчезал. После каждого из этих стихотворений он исчезал вообще из поля зрения. Нету такого и все. Нет такого. Так что я перед этим человеком мысленно, в хорошем смысле слова, на коленях. Я понимаю, что он сделал для страны и для человечества очень и очень многое. Это великий человек. А то, что он любил пестрые рубашки, зеленые носки носил… Его спросили: «А почему вы так пестро одеваетесь?» А он говорил: «У меня было такое серое детство. Все в фуфайках, в робах, в зековках». Как хорошо сказал.
Ну а потом, кажется, у всех бывают слабые стихи. Но поэта надо судить по его достижениям.
Он сам мне сказал. Что ж вы думаете, я самодовольно считаю, вот у него такая книга, что там все хорошее? Во‑первых, не бывает, чтобы все – только хорошее. А во‑вторых, ну что ж, как Любимов говорил: «Я, конечно, мечтаю поставить гениальный спектакль. Но ведь может не получиться». И не нанимался ни один поэт писать только хорошие стихи. Если среди вас есть люди, которые твердо уверены, что все, что они делают, – хорошо, я им искренне завидую. Так не получается.
Мне кажется, это наша не очень хорошая черта, когда выискиваем плохое вместо того, чтобы судить по вершинам.
Завидуют. Ну как же – весь мир его знает. Да. Весь мир его знает. Вот я в Южной Корее премию Манхэ получал. Похвастаюсь – единственный из европейских, единственный из русских поэтов, получивший вот эту буддийскую премию. <спросишь их> «Кого вы знаете из русских поэтов?» – Маяковский. Ахматова. Пастернак. Евтушенко. Но знают! В Южной Корее! Везде знают Евтушенко. И знают по его великим поступкам. А не по тому, что он где‑то там, может быть, подсюсюкнул властям. Власть… это ж тоже люди. Плохие люди. Хорошие…
Это вообще такая тема – где власть начинается. Мы все, каждый – чуть‑чуть власть.
В том‑то и дело! И думаю, лучше всего сказал про это Державин:
О добродетелях Фелицы возгласить…
А дальше идут слова гениальные:
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям с улыбкой говорить.
Я не скажу, что он с улыбкой говорил. Он говорил жестко. Но говорил. Истину царям говорил.
Спасибо вам большое за эти слова о Евгении Евтушенко. А с Андреем Вознесенским вы вообще просто дружили?
Ну это гений! Это супергений! Я сказал, что XX век начался гением Маяковского, а завершился гением Андрея Вознесенского. Причем существует какая‑то глупость, что якобы Андрей Вознесенский в конце жизни писал хуже, чем в начале.
Такое есть, да. Расхожее мнение уже стало.
Это такая чепуха! Вот он мне принес книгу «Возвратитесь в цветы». Уже название – гениальное. И заканчивается эта поэма такими словами:
Живите искренне. Живите ирисно!
Возвратитесь в цветы!
Я ему ответил сразу. Я никогда не пишу на тематику. Но тут – из сердца.
«Возвратитесь в цветы», – говорит Вознесенский.
Возвратимся, Андрюша, и я, и ты.
А когда возвратимся,
то вновь возродимся.
Или в нас возродятся цветы.
Нам нельзя возвращаться в тюльпаны и маки.
Горл бутона готовы
И еще не известные монстры Ламарка
Вырастая из горл,
воплощаются в слово.
Мы прошли по земле
как Христос по воде,
Оставляя лилий следы.
Мы прошли по земле
и остались в земле,
Как в земле остаются сады.
Семена наших душ
опадут по росе.
И слезами осыплется сад.
А над нами на небе другие сады
Звезды гроздьями света висят.
Я ему это прочитал по телефону. И он расплакался. Сказал… ну, не буду говорить все, что он сказал…
Да, это личное уже.
Расплакался…
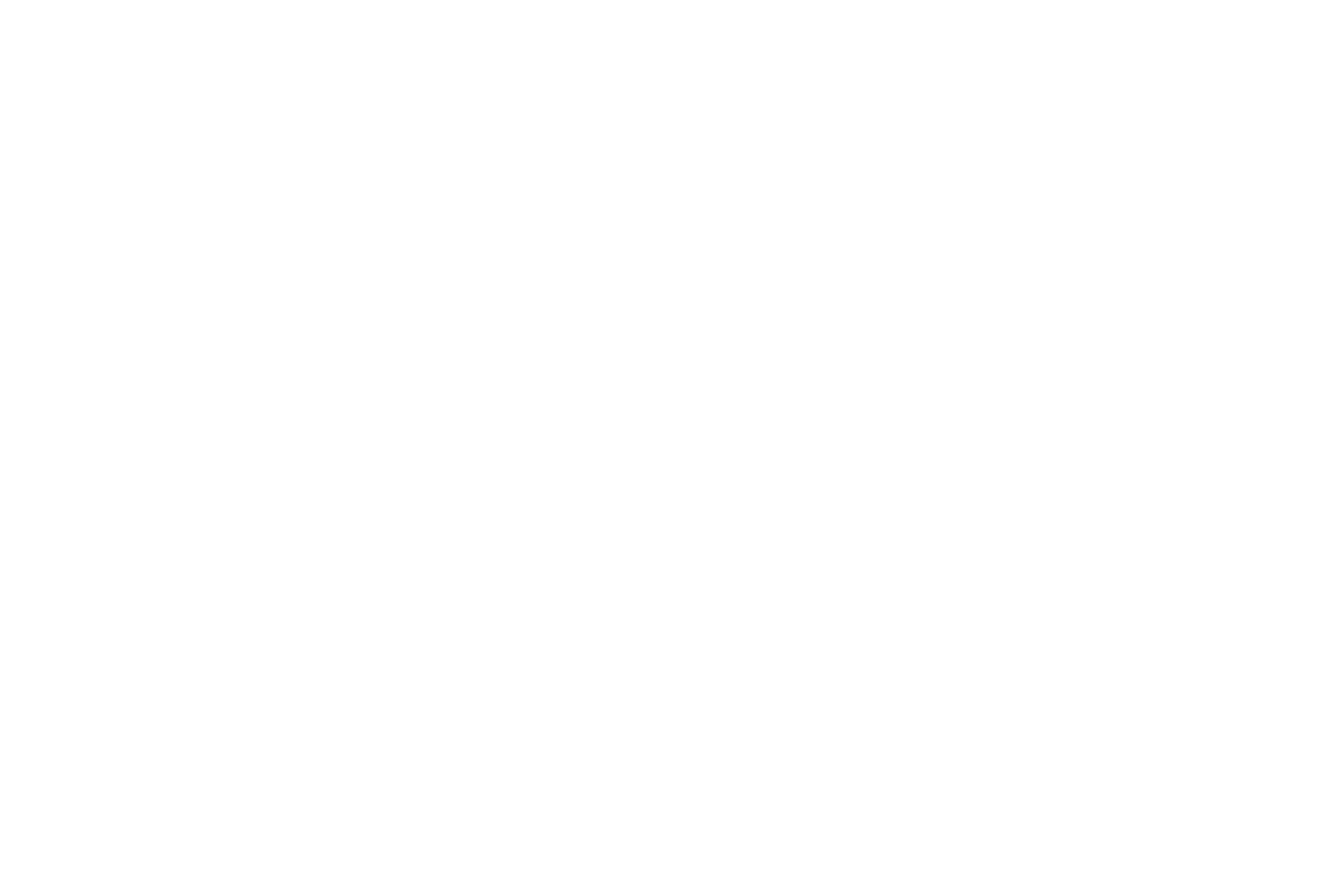
И у вас же было ДООС. Добровольное общество охраны стрекоз.
Ну почему было? Оно есть.
И Вознесенский же был тоже...
Стрекозавр. У них даже с Генрихом Сапгиром… Генрих – тоже замечательный человек. Дело даже не в его текстах. Он сам по себе – явление. Вот они вдвоем – Холин и Сапгир – что‑то поразительное. Дон Кихот и Санчо Панса. Они ко мне приезжали на улицу Артековскую. Представляете? Вот сейчас, в их возрасте, я понимаю, боже, как это они ехали? Это ж из центра Москвы, туда, на Артековскую. И они приезжали, и мы сидели, распивали, стихи читали, разговаривали. Сколько мы вечеров провели поэтических. Сколько прекрасных дел совершили.
И вот когда я ДООС создал, общество возникло в 84‑м году из моего стихотворения ДООС – добровольное общество охраны стрекоз. Потому что: ты все пела. Это – дело. Из басни Крылова, но с другим смыслом. Не я это открыл. Оказывается, Ван Гог тоже это заметил. Что права стрекоза, пение‑то – это дело. И вдруг в 99‑м году и Сапгир – это, кстати, год его смерти. И потом Вознесенский заявили: «Мы хотим официально быть в ДООСе. Со званием». А у меня было звание – Стрекозавр. И вот: «Я тоже хочу». Хорошо, Вознесенский – Стрекозавр. Сапгир говорит: «А у меня какое звание?» Я говорю: «Ну придумай себе какое‑нибудь». – «А Вознесенский – Стрекозавр? А я тоже хочу быть Стрекозавром». Я говорю: «Ну, ладно, чтобы не все были на одно лицо, я буду Стихозавром. А вы, как два гения, будете Стрекозавром». Но там еще есть два гения – Леша Хвостенко, соавтор Волохонского по этой песне (говорит нараспев) – «Над небом голубым, есть город золотой…» Там, правда, они темнили оба, кто автор.
Из них в смысле?
Ну конечно. Там потому что начальный текст был Анри. Но песенный лад и музыка – это все Леша. То есть в гениальную песню это превратил Леша. Я его называл Моцарт гитары. Мы сдружились. Однажды я вдруг получаю в 88‑м году какую‑то посылку из Парижа. А я под наблюдением, я же…
Вы же Лесник…
Да, Лесник (улыбаются). Ну, думаю, сейчас вообще заметут. Посылка вся в марках. И они зовут меня в Париж на фестиваль международного авангарда. Почему‑то меня выпустили. Я не знаю, почему. Это был мой второй выезд. Первый был в Финляндию. А второй – в Париж. Ну и там я так (подчеркивает) подружился с Лешей. И он написал, посвятил мне стихотворение замечательное. «Часослов» оно называется. Но его цитировать бесполезно. Его читать надо.
Он был уникальный, конечно. И вот Анри Волохонский в этом году нас покинул…
Да, ушел Анри. Он все хотел меня с ним как‑то сдружить. Но Анри – в Израиле, я в Москве. Леша – в Париже. Но что интересно. Мы справляли 25‑летие ДООСа в Литературном музее в ноябре‑месяце в 2004 году. Год ухода Хвоста. Подходим к музею, а он стоит. Пришел. И он тогда произнес пламенную речь: «Из всего, что делается в современной поэзии, мне ближе всего ДООС». Так что он в ДООС не входил, но… мнение высказал совершенно четко.
А вот шестидесятники. Если взять, в общем, это расхожее мнение, это миф или действительно было…
Шестидесятники – это абсолютный миф. Они совершенно, абсолютно разные люди. С разным пониманием мира, истории и т. д. Ну возьмите ту же Беллу Ахмадулину. Она могла так сказать: «Мы обращались к Брежневу. Мы обращались в ЦК. Не трогайте Солженицына. Но нам никто не отвечает. Дак обратимся к Богу», – и на коленях там... А вот Евтушенко, который дал точнейшие политические, лиропоэтические формулы века, что называется. А Андрей, ну смотрите, он же весь вот в этих строках: «Ни Иегова, ни Иисусе… Небом единым жив человек». Это Шагал
Или:
Можно и не быть поэтом,
но нельзя терпеть, пойми,
как кричит полоска света,
прищемленная дверьми!
Слушайте, если б ничего не написал, только это, уже все, уже ясно, что он гениальный поэт. Ну а «все прогрессы реакционны, если рушится человек» – это же на века, навсегда. Это же не просто так слова. Но это не политический человек. Он хотел. Ему хотелось влиять. – Нет. Он еще и мистический человек. Вот понимаете, он написал поэму. «Белый урагангел» она называется. Где описал, помните, был в Москве жуткий ураган, сейчас‑то нам такое не кажется жутким, сейчас каждый день такое.
Это 98‑й год был, этот ураган.
Да, да, да. Вот этот он и описал. Перевернутые могилы на Новодевичьем… там, кстати, у него повторяющийся образ – кресты как плюсы. Земли к небу. И вот в день его отпевания мы из ЦДЛ – в церковь святой Татьяны. И вдруг во время отпевания слышу какой‑то шум, думаю, чего это они надумали крышу‑то чинить. Да и день‑то субботний. Грохот. А это, оказывается, ураган. Жуткий ураган. И мы едем на Новодевичье, там все, как у него описано. Прям иллюстрация к его словам. Ну мистика! А разве не мистика – мы идем по переулку Вознесенскому, там стоит лютеранский храм, бывшая фирма «Мелодия», Андрея Первозванного, мы спускаемся по переулку – там стоит церковь Вознесения. Не мистика? Мистика.
Мистика, конечно. И сегодня вы еще вспоминали, когда мы готовились к передаче, как пошел снег…
Да. У Евтушенко, на 40‑й день.
Идут белые снеги, как по нитке скользя,
Жить и жить бы на свете, да, видно, нельзя…
Он написал в сорок с чем‑то лет, у него был приступ язвы, в Тбилиси он отравился. И тут на сороковой день – белые снеги… Лето – а вот, идут. Мистика. Поэты, я в этом абсолютно уверен, поэзия воздействует не только на умы и сердца. А все, что воздействует на умы и сердца, воздействует на природу, на космос, на Вселенную. Неслучайно же наши цари так боялись поэзии. Ну просто фобия была у Николая I. Он же Полежаева, студента, молодого человека… тот написал шутливую поэму, как студенты штурмуют публичный дом. Он его вызывает к себе, беседует с ним всю ночь и ссылает в солдаты. И следит очень внимательно, чтобы ни в коем случае его не повысили в звании, не сделали офицером. И он так и погиб, Полежаев, в лазарете, крысами объеденный…
Я эту историю не знаю…
Жуть кошмарная. За Лермонтовым он следит. И когда Лермонтов гибнет, говорит: «Собаке – собачья смерть». Что это? Это поэтобоязнь. И Пушкина, конечно, он боялся, как огня. Просто уважал, потому что чувствовал мощную силу. Но, конечно, боялся. Ну слушайте, это слыханное ли дело – славу России хоронят тайно ночью. Два жандарма везут. Все. Весь почетный караул. Я это не к тому, что такие‑сякие злодеи. Но Мандельштам прав – только в Росси так любят поэзию. В России за нее убивают.
А вот сейчас за нее убивают? Сейчас вообще боятся поэтов?
Как вам сказать. Конечно, я не могу сравнить жизнь свою, а она прошла при такой вот эстетической диктатуре и чудовищной глупости, но понимаете, какая интересная вещь, эти же люди, которые все это осуществляли, все это безобразие, устанавливали диктатуру в эстетике, которые диктовали, как надо писать, как не надо писать, они же по‑прежнему сидят на своих местах. (пауза) Я не буду называть их фамилии. Дело не в фамилиях. Ну и они теперь уже не по зову партии, а по зову сердца. Как Шолохов сказал: «Некоторые говорят, что мы действуем по указке партии. Нет. Мы действуем по указке сердца. Но сердца наши принадлежат партии». Вот сердца их принадлежат партии глупости, косности и твердой уверенности, что литература или культура… как говорил Любимов: «Они думают, что культурой можно управлять». Нет, друзья мои. Культура управится с кем угодно. А вот культурой управлять невозможно. Это Он (показывает наверх) только может. И то Он, по‑моему, не вмешивается.
Или по очень важным моментам.
Да.
Заканчивая тему шестидесятников. Будет еще время, когда поэзия будет собирать стадионы? Или это было настолько уникальное стечение обстоятельств?
Слушайте, я все время это говорю и боюсь, немножко надоел с повторением. Но все‑таки скажу еще раз. Сколько стадион «Лужники» вмещает?
В свое время сто тысяч вмещал. А сейчас, по‑моему, меньше.
Ха‑ха‑ха! Я смеюсь. А сколько вмещает интернет?
Ну, интернет. У нас только на Стихи.ру – миллионы пользователей.
Ну! Вот вам ответ. Такой гигантской аудитории…
Просто раньше надо было прийти на стадион. А теперь можно, сидя дома, смотреть Литклуб.TV.
Конечно, это удивительно. Спасибо тебе, господи, что я дожил до этих времен. Что между стихом, возникшим в моей голове в полночь, и его публикацией возникает, ну, четыре минуты. Все. И уже отзывы идут. Сразу. Секунда.
А вы активно пользуетесь интернетом?
Часа три‑четыре‑пять, конечно. А если потный вал вдохновения, как у Ильфа и Петрова, куда денешься, сидишь сутками. Это все глупость говорят – интернетзависимость. Это от себя зависимость. А что, у Толстого не было зависимости…
Все зависит от того, чем в интернете заниматься.
Разумеется. Конечно.
Скажите, а у вас есть понимание, видение, представление о том, а как вообще поэзия развивается?
О, это такая дамочка! Скажу я вам. Так же, как в любви, никогда не знаешь, в какую сторону сердце колыхнется, и у тебя, и у твоей возлюбленной, так и в поэзии. Я знаю только, что она удивляла, удивляет и будет нас удивлять своими неожиданными поворотами. Совершенно неожиданными. Конечно, пока нетрудно предсказать, что в ближайщие годы пока по‑прежнему будет господствовать… вот Хлебников написал: «О, засмейтесь, смехачи!» – поэты-смехачи. Это без уничижительного. Да.
Девушка в прозрачном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Ты зачем своим торгуешь телом
От большого дела вдалеке.
Иртеньев написал. Как‑то так ложится на душу сразу же. Ироническое отношение к жизни. Стихи Саши Черного. Обэриутов. Господствует Хармс. Так что на ближайшее время – это. Потому что очень уж действительность какая‑то такая, смешная. Поэтому ироническое отношение к миру и недоверие ко всякому пафосу. В этом смысле я перед вами мастодонт, и мамонт, и ихтиозавр, потому что ирония – да, конечно, ирония. Но никуда не денешься и от… То, что есть в Вознесенском, в Маяковском. – мне не чуждо. Я все‑таки восхищаюсь – перед господом, перед женщиной, перед природой, перед мирозданием, перед Эйнштейном, как это все сотворено и создано. Этот восторг во мне живет. Это немодно.
Это, кстати, меня и поражает. Я хотел оставить это на финал передачи, но, ладно, коли вы уже сейчас сами произнесли слово «восторг». Меня тоже поражает ваше такое отношение к мирозданию, такое восторженное. Ведь подтекст этого практически: аллилуйя!
Ну, разумеется. Но это старая традиция русской поэзии. Возьмите стихотворение Державина «Бог». Куда денешься. Но это естественно. Восторг.
Хотя потом, начиная с Лермонтова, пошло вот это: поэт мрачный такой, пессимистичный.
Да, потом это стало господствующей интонацией. А у Некрасова уже вообще в плач перешло. Там рыданье сплошное – «выдь на Волгу, чей стон раздается…»
А смотрите – поэзии накоплено много, чудовищно много накоплено прекрасного – Золотой век, Серебряный, шестидесятники…
Да Серебряный век – такая же выдумка, как и шестидесятники. Ну что серебряного было в Гиппиус или в Марине Цветаевой?
Вздрогнешь – и горе с плеч
И душа горе
Дай мне спеть моей горе
Черной ни днесь, ни впредь
Не заткну дыры.
Дай мне о горе спеть
На верху горы.
Та гора была как грудь
Рекрута, снарядом сваленного.
Та гора хотела губ
Девственных, наряда свадебного
требовала та гора.
Океан в ушную раковину
Вдруг ворвавшимся ура!
Та гора гнала и ратовала…
Что тут серебряного? Ученица Маяковского!
Ну да, да. Вопрос вот в чем. Все равно это, как ком, накапливается, одно, другое, направления разные, течения. От этого поэзия становится сложнее?
Конечно. Ну что вы. Такие сложные образы, как «облако в штанах». Или «как кричит полоска света, прищемленная дверьми». Это не могло возникнуть у поэта XIX века. И XVIII века. Это только в XX веке могло появиться.
А эта сложность – может быть она одной из причин ослабления читательского интереса к поэзии? Хотя вы это оспариваете. Может, она в излишней усложненности? Что поэты стали слишком поэтами для поэтов? То есть только специальные люди могут в этом понимать?
Дорогие мои телезрители (смотрит прямо в камеру, на зрителей), я верю, что вы все можете понимать. Все, о чем я вам сейчас говорил, и все, что я вам сейчас читал, это может нравиться или не нравиться. Но понимать это может каждый из тех, кто меня слушает. Я не верю, что Теория относительности сложна. Она ничуть не более сложная, чем Ньютон. Ньютон еще посложнее будет. Я не верю, что Лобачевский сложнее Евклида. Сложность мира – она всегда одинаковая. Конечно, мир и бог умнее человека. Вне всякого сомнения. Мы все время сталкиваемся с высшим разумом. Ну и, как говорил Христос: «Царство божие нудится». Нужно какое-то усилие. В свое время к Евклиду обратился фараон из династии Птолемеев: «Что там за геометрия, что за наука такая, покажи мне». Тот стал ему показывать: a, b, c. «Ой, сложно. А покороче нельзя?» Ему Евклид и говорит: «Дак ведь царского пути в геометрии не существует». Так что, конечно, царского пути ни в поэзии, ни в физике не существует. Везде нужны внутренние усилия.
Но я вовсе не хочу сказать, что те, кто не понимает поэзию, – такие нехорошие люди. Есть еще природная расположенность. И с этим тоже ничего не поделаешь. Одни люди влюбляются, а другие – нет. Спокойно проживают свою жизнь. Вот те, кто спокойно, рационально проживают свою жизнь, это не значит, что они глупы или плохи. Так они устроены. Конечно, сказать, что поэзия так уж совсем для всех – это все‑таки преувеличение. Это раньше говорили: «Искусство принадлежит народу». Никому не принадлежит искусство. Даже тому, кто пишет стихотворение, это стихотворение не принадлежит.
Как только он его написал, оно уже не его.
Да нет, еще раньше. Как сказал Вознесенский: «Стихи не пишутся – случаются… Не написал – случилось так». Самые лучшие стихи – те, которые возникают сами.
Ну а с тезисом Александра Сергеевича, что «поэзия должна быть глуповата», вы, наверное, категорически не согласны?
Ее вырывают из контекста. Так же, как Пастернака вырвали из контекста: «Не впасть, как в ересь, в неслыханную простоту». Так ведь «как в ересь» не впасть. Это ж не значит – давайте будем еретиками и все. Но в ересь можно, можно и в простоту. И у Пушкина это письмо к Вяземскому. В ответ на его стихотворение «Русский бог». Стихотворение длинноватое. По теперешним временам – дерзкое. «Бог прокисших сливок, вот он, вот он, русский бог». Антиклерикальное. Сейчас бы сказали: оскорбляющее чувства верующих. Сейчас бы его упекли. Но Пушкин ему отвечает с поэтической точки зрения: понимаешь, оно слишком умное. А поэзия, прости господи, должна быть глуповата. Так что Пушкин очень точно показывает эту тонкую грань. Глуповата, но не глупа же.
То есть это и сказано по конкретному поводу и сказано так, чтобы не сильно обидеть, такая мягкая форма.
Чтобы не сильно обидеть умнейшего человека России, написавшего Конституцию для Польши и т. д. и великого знатного вельможу. Так аккуратненько ему пояснить, что он по призванию своему все‑таки не совсем поэт.
А вы любите всякий эксперимент в поэзии? И как отличить эксперимент, который ради эксперимента...
Никак. Нету таких. Ну, кто‑то, может, занимается, это делает, но я этого не понимаю. Что значит эксперимент в поэзии? Но ведь тогда вся жизнь – эксперимент. Вот я иду на свидание. Это ж тоже эксперимент. Может, да, а может, нет. Может, сложатся отношения, может, не сложатся. Вот я объясняюсь в любви, опять же, может, будет отклик, может, не будет. Есть момент, не эксперимент, а другое. Видимо, и люди тоже разные. Вот я из такого теста создан: когда вижу что‑то непонятное, я радуюсь. И мне интересно – я этого не понимаю, я этого не знал, ну‑ка, ну‑ка, а вдруг там чего‑нибудь есть. А большинство, наверное, людей все‑таки настроены…
Это пугает. Непонятное пугает.
Да. Непонятное пугает. Но тоже можно понять – мало ли чего. И у них срабатывает охранительный инстинкт. А не обманывают ли? Как говорил Маяковский: «Не шулер ли?» Ну какой эксперимент? Как говорил Маяковский:
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая!
и окровавленную дам, как знамя.
Вот и весь эксперимент.
Ну, хорошо, скажем, не эксперимент, а яркая форма. Вот как отличить, когда яркая форма просто ради яркой формы и у нее нет ничего за душой. Или форма яркая, которая подкреплена глубоким содержанием?
В поэзии – это я твердо убежден – форма со-дер-жа-тель-на (говорит по складам). Самые мудрые, самые глубокие мысли, высказанные просто так, вне какого‑то звукового оформления, метафоры, в поэзии не звучат. И в то же время там иногда звук значит гораздо больше, чем смысл самого обычного слова. Как‑то про мою поэзию Генрих Сапгир сказал замечательные слова: «Тут, в отличие от концептуализма, важен не сам заостренный смысл слова, а то, что кроется за этим смыслом».
Есть такой гений. О нем мало говорят, бурбонской крови, преподавал в Казанском университете – профессор Бодуэн де Куртенэ. В 12‑м году он создал теорию фонемы. Что такое фонема? Вот, допустим, слово «свет». Оно состоит из звуков – с в е т (произносит звуки). Давайте уберем какую‑нибудь букву, любую. С, допустим – вет. Уже не совсем понятно, что это «свет». А иногда можно изъять несколько букв, а все равно смысл остается. Вот это и есть нечто, стоящее за произнесенным и за звучащим. Мы можем сказать: корова, курова, кирова, и все равно поймем, что «корова». Звуков множество, а фонема там, за ними, смысловая кроется какая‑то одна. Вот я думаю, что будущее, отвечая на предыдущий вопрос, за фонемной поэзией. Какой‑то виртуальный, таинственный смысл, который кроется за произносимыми словами. Это Фет в свое время подметил, что, «не знаю сам, что буду петь – но только песня зреет».
И еще у меня есть текст, исчезающий на глазах. Вот смотрите:
Чижик‑пыжик,
Где ты был.
Чижик‑пыжик
Где ты
Был
На глазах исчезающий текст.
Или: человек рожден для счастья, как птица для полета. (Короленко)
Человек рожден для счастья, как птица
Человек рожден для счастья
Человек рожден
Человек
На глазах исчезающий текст.
Или однажды я написал в 88 году комментарий к отсутствующему тексту. Начинался он словами: «Этот текст является комментарием к отсутствующему тексту. В то же время отсутствующий текст является комментарием к этому тексту». И мне критик Данила Давыдов сказал: «Но тогда все является текстом». Я ему говорю: «Именно это я и хотел сказать». Некий текст, который как бы отсутствует. Молчание содержит в себе все слова, какие только есть на земле. С моей точки зрения, у поэзии есть большие перспективы в этом направлении.
Ну и потом вы знаете, поэзия все больше становится похожа на современную физику. На современную космологию. Это нетрудно проследить. Когда вы читаете современную космологическую статью или про какие‑то частицы, которые одновременно волна, и волна, которая одновременно частица, и вам говорят, что частица, которая сейчас здесь, вот тут (показывает на сторону груди, где сердце) на нее воздействуют, а она, может, на Марсе откликается без малейшего промежутка пространства‑времени. Это что? Это поэзия. Но это квантовая физика. Так что идет сближение. И еще одна вещь, очень важная. Физики открыли так называемый антропный принцип мироздания. Принцип этот гласит следующее: этот мир таков, как он есть, потому что мы на него смотрим. То есть когда мы на него смотрим, мы своими глазами воздействуем на него и творим его. Казалось бы. Марксисты бы сказали: субъективный идеализм. Да, субъективный идеализм, совершенно верно. Но это подтверждается современными физическими опытами. Так вот поэзия – это такая квантовая физика. Мы все время изменяем мир. Нет никакого мира. Он все время будет субъективней и субъективней. И в поэзии чем субъективнее, тем лучше. Хотя нас‑то учили – реализм, отражать. Ничего мы не должны отражать. Мы должны субъективное. Насколько ценится в физике практический результат и т. д., настолько в поэзии самое главное – субъективное, неповторимое ощущение мира. Которое нам дарит каждый великий поэт. Читаете Вознесенского – это Вознесенский. Вы его не спутаете ни с Маяковским, ни с Евтушенко, ни с Беллой Ахмадулиной. Ни в коей мере не спутаете. Так устроено.
Самое ценное в поэзии – это субъект. Поэтому поэзия – это доверие к человеку. Абсолютное доверие. Бесконечное. И этот человек – автор. То есть поэт. Я вообще против профессии критика. Переводится это как «острый судия». Не нужны никакие острые судии. И вообще не нужно ничего критиковать. Вот я встречаю женщину, я ж не начинаю: у нее нос не такой, у нее рот не такой и т. д. Я либо с симпатией и интересом смотрю, либо не испытываю интереса. Но критиковать не надо. Как можно критиковать человеческую душу? Мне очень не нравится, когда говорят, вот, графоманство. Что значит графоман? Что написал и у него не получилось? Ну, не получилось, ну и что? Но он что‑то выражал, что‑то хотел сказать. Что‑то важное для него. Он восхитился, что у него срифмовалось впервые в жизни: кровь – любовь. Ну да, он не знает, что до него это прорифмовало еще два миллиона авторов. Но что из этого? Он для себя‑то это открыл. Поэтому всячески приветствовать надо и поощрять то, что люди устремляются к поэзии. Влюбляются в рифму или пишут без рифмы. Это ж тоже смелость какая – взять на себя и вдруг написать стихотворение без рифмы. Ведь если нет рифмы, то должен быть образ, должна быть мысль, должен быть неожиданный совершенно там, внутри, ход. Это очень сложный жанр. Но я в последнее время тянусь обратно в рифму. Не потому что, как Пастернак, «впасть, как в ересь, в неслыханную простоту». Никуда я не впадаю. А просто так легче многие вещи сказать. Вот, думаю, расскажу‑ка я вот про те же шестидесятые годы. А потом думаю, зачем. Я вам сейчас стих напишу. Так что поэзия – это еще возможность краткого послания. Азбука Морзе, такая телеграмма. От бога к человеку, от человека к богу. От человека к человеку, что то же самое. Вознесенский на мое шестидесятилетие написал такое стихотворение:
Константирует Кедров поэтический код декретов.
Константирует Кедров недра пройденных километров.
Так, беся современников, как кулич на лопате,
Константировал Мельников особняк на Арбате.
Для кого он горбатил сумасшедший арбайтер?
Ну для кого горбатился? Для себя. Мельникову было приятно – вот, особняк на Арбате. Я был польщен, что мою поэзию он сравнил с этим замечательным строением на Арбате, которое находится в Кривоарбатском переулке. Это место прославилось тем, что там в отделение милиции доставили мальчика, который читал монолог Гамлета, Шекспира. Но еще Андрей однажды пригласил меня на ночной эфир, который длился три часа. Это в 94‑м году был мост между Нью‑Йорком, Иерусалимом, Тбилиси и Киевом. Андрей любил очень всякие мистификации. Он говорит: «Давай, будто бы ты поспорил со мной, что я не напишу стихи в эфире. А я напишу. – Вынимает такую амбарную книгу, у него там заготовки. И потом говорит: – поскольку тут рядом со мной Кедров, он меня вдохновил, и я вот написал». И прочитал стихотворение:
Раз, и два, и три, четыре,
С Костей мы сидим в эфире.
Вся Россия в эйфории.
Митингуют поварихи,
Гуси с шеей Нефертити
Нас за все приговорили,
Говорите, говорите,
Мы виновны, что отечество
У разбитого корыта.
Если это вас утешит,
Говорите, говорите.
Костя, не противься бреду,
Их беде пособолезнуй.
В наших критиках по Фрейду –
Их история болезни.
Костя, Костя, как помирим
Эту истину и ту,
Станем мыслящим эфиром,
Пролетая темноту.
По‑моему, гениально сказал.
Говори, не умолкай.
Ну что же, Константин Александрович, и напоследок несколько кратких вопросов. Какие бы три книги вы взяли с собой на необитаемый остров?
Хлебникова. Евангелие. И «Похождения бравого солдата Швейка».
Прекрасная компания (смеются). Какое слово вам не нравится, вы стараетесь его не употреблять?
Послушание.
А какое слово, наоборот, нравится, вы его любите, может быть, даже ассоциируете с собой?
Поэзия.
И что бы вы пожелали нашим телезрителям, многие из них пишут стихи, кто‑то прозу.
А можно немножечко развернуто? Чуточку?
Конечно.
Меня сейчас спрашивают: «Почему вам не близок Бродский? Разве вы не цените?» Ценю! «А почему он вам не близок?» Он все время рассказывает, как ему плохо. Ну, действительно, человеку плохо. Во‑первых, он умрет, во‑вторых, он болеет, в‑третьих, он теряет близких. Да мало ли чего, несправедливость кругом и все такое. Но, друзья мои, если я пишу и у меня получается стихотворение, это такая высокая награда, это такое счастье! Поэзия – это рай на земле. И если я пишу и при этом я несчастлив, значит, у меня стих не получился. Поэтому рай, счастье, радость, вот что я желаю нашим дорогим телезрителям и слушателям. Рай поэзии. Неважно, что этот рай в аду. Он всегда при нас.
И свет во тьме светит.
Друзья мои, на мой взгляд, потрясающий разговор. Поэзия – это рай на земле. И я зарядился какой‑то энергией радости и ликования нашего бытия, да, в котором действительно много страдания, но есть что‑то высшее. И этот заряд ликования я от Константина Александровича сегодня получил. Спасибо большое!
Ну почему было? Оно есть.
И Вознесенский же был тоже...
Стрекозавр. У них даже с Генрихом Сапгиром… Генрих – тоже замечательный человек. Дело даже не в его текстах. Он сам по себе – явление. Вот они вдвоем – Холин и Сапгир – что‑то поразительное. Дон Кихот и Санчо Панса. Они ко мне приезжали на улицу Артековскую. Представляете? Вот сейчас, в их возрасте, я понимаю, боже, как это они ехали? Это ж из центра Москвы, туда, на Артековскую. И они приезжали, и мы сидели, распивали, стихи читали, разговаривали. Сколько мы вечеров провели поэтических. Сколько прекрасных дел совершили.
И вот когда я ДООС создал, общество возникло в 84‑м году из моего стихотворения ДООС – добровольное общество охраны стрекоз. Потому что: ты все пела. Это – дело. Из басни Крылова, но с другим смыслом. Не я это открыл. Оказывается, Ван Гог тоже это заметил. Что права стрекоза, пение‑то – это дело. И вдруг в 99‑м году и Сапгир – это, кстати, год его смерти. И потом Вознесенский заявили: «Мы хотим официально быть в ДООСе. Со званием». А у меня было звание – Стрекозавр. И вот: «Я тоже хочу». Хорошо, Вознесенский – Стрекозавр. Сапгир говорит: «А у меня какое звание?» Я говорю: «Ну придумай себе какое‑нибудь». – «А Вознесенский – Стрекозавр? А я тоже хочу быть Стрекозавром». Я говорю: «Ну, ладно, чтобы не все были на одно лицо, я буду Стихозавром. А вы, как два гения, будете Стрекозавром». Но там еще есть два гения – Леша Хвостенко, соавтор Волохонского по этой песне (говорит нараспев) – «Над небом голубым, есть город золотой…» Там, правда, они темнили оба, кто автор.
Из них в смысле?
Ну конечно. Там потому что начальный текст был Анри. Но песенный лад и музыка – это все Леша. То есть в гениальную песню это превратил Леша. Я его называл Моцарт гитары. Мы сдружились. Однажды я вдруг получаю в 88‑м году какую‑то посылку из Парижа. А я под наблюдением, я же…
Вы же Лесник…
Да, Лесник (улыбаются). Ну, думаю, сейчас вообще заметут. Посылка вся в марках. И они зовут меня в Париж на фестиваль международного авангарда. Почему‑то меня выпустили. Я не знаю, почему. Это был мой второй выезд. Первый был в Финляндию. А второй – в Париж. Ну и там я так (подчеркивает) подружился с Лешей. И он написал, посвятил мне стихотворение замечательное. «Часослов» оно называется. Но его цитировать бесполезно. Его читать надо.
Он был уникальный, конечно. И вот Анри Волохонский в этом году нас покинул…
Да, ушел Анри. Он все хотел меня с ним как‑то сдружить. Но Анри – в Израиле, я в Москве. Леша – в Париже. Но что интересно. Мы справляли 25‑летие ДООСа в Литературном музее в ноябре‑месяце в 2004 году. Год ухода Хвоста. Подходим к музею, а он стоит. Пришел. И он тогда произнес пламенную речь: «Из всего, что делается в современной поэзии, мне ближе всего ДООС». Так что он в ДООС не входил, но… мнение высказал совершенно четко.
А вот шестидесятники. Если взять, в общем, это расхожее мнение, это миф или действительно было…
Шестидесятники – это абсолютный миф. Они совершенно, абсолютно разные люди. С разным пониманием мира, истории и т. д. Ну возьмите ту же Беллу Ахмадулину. Она могла так сказать: «Мы обращались к Брежневу. Мы обращались в ЦК. Не трогайте Солженицына. Но нам никто не отвечает. Дак обратимся к Богу», – и на коленях там... А вот Евтушенко, который дал точнейшие политические, лиропоэтические формулы века, что называется. А Андрей, ну смотрите, он же весь вот в этих строках: «Ни Иегова, ни Иисусе… Небом единым жив человек». Это Шагал
Или:
Можно и не быть поэтом,
но нельзя терпеть, пойми,
как кричит полоска света,
прищемленная дверьми!
Слушайте, если б ничего не написал, только это, уже все, уже ясно, что он гениальный поэт. Ну а «все прогрессы реакционны, если рушится человек» – это же на века, навсегда. Это же не просто так слова. Но это не политический человек. Он хотел. Ему хотелось влиять. – Нет. Он еще и мистический человек. Вот понимаете, он написал поэму. «Белый урагангел» она называется. Где описал, помните, был в Москве жуткий ураган, сейчас‑то нам такое не кажется жутким, сейчас каждый день такое.
Это 98‑й год был, этот ураган.
Да, да, да. Вот этот он и описал. Перевернутые могилы на Новодевичьем… там, кстати, у него повторяющийся образ – кресты как плюсы. Земли к небу. И вот в день его отпевания мы из ЦДЛ – в церковь святой Татьяны. И вдруг во время отпевания слышу какой‑то шум, думаю, чего это они надумали крышу‑то чинить. Да и день‑то субботний. Грохот. А это, оказывается, ураган. Жуткий ураган. И мы едем на Новодевичье, там все, как у него описано. Прям иллюстрация к его словам. Ну мистика! А разве не мистика – мы идем по переулку Вознесенскому, там стоит лютеранский храм, бывшая фирма «Мелодия», Андрея Первозванного, мы спускаемся по переулку – там стоит церковь Вознесения. Не мистика? Мистика.
Мистика, конечно. И сегодня вы еще вспоминали, когда мы готовились к передаче, как пошел снег…
Да. У Евтушенко, на 40‑й день.
Идут белые снеги, как по нитке скользя,
Жить и жить бы на свете, да, видно, нельзя…
Он написал в сорок с чем‑то лет, у него был приступ язвы, в Тбилиси он отравился. И тут на сороковой день – белые снеги… Лето – а вот, идут. Мистика. Поэты, я в этом абсолютно уверен, поэзия воздействует не только на умы и сердца. А все, что воздействует на умы и сердца, воздействует на природу, на космос, на Вселенную. Неслучайно же наши цари так боялись поэзии. Ну просто фобия была у Николая I. Он же Полежаева, студента, молодого человека… тот написал шутливую поэму, как студенты штурмуют публичный дом. Он его вызывает к себе, беседует с ним всю ночь и ссылает в солдаты. И следит очень внимательно, чтобы ни в коем случае его не повысили в звании, не сделали офицером. И он так и погиб, Полежаев, в лазарете, крысами объеденный…
Я эту историю не знаю…
Жуть кошмарная. За Лермонтовым он следит. И когда Лермонтов гибнет, говорит: «Собаке – собачья смерть». Что это? Это поэтобоязнь. И Пушкина, конечно, он боялся, как огня. Просто уважал, потому что чувствовал мощную силу. Но, конечно, боялся. Ну слушайте, это слыханное ли дело – славу России хоронят тайно ночью. Два жандарма везут. Все. Весь почетный караул. Я это не к тому, что такие‑сякие злодеи. Но Мандельштам прав – только в Росси так любят поэзию. В России за нее убивают.
А вот сейчас за нее убивают? Сейчас вообще боятся поэтов?
Как вам сказать. Конечно, я не могу сравнить жизнь свою, а она прошла при такой вот эстетической диктатуре и чудовищной глупости, но понимаете, какая интересная вещь, эти же люди, которые все это осуществляли, все это безобразие, устанавливали диктатуру в эстетике, которые диктовали, как надо писать, как не надо писать, они же по‑прежнему сидят на своих местах. (пауза) Я не буду называть их фамилии. Дело не в фамилиях. Ну и они теперь уже не по зову партии, а по зову сердца. Как Шолохов сказал: «Некоторые говорят, что мы действуем по указке партии. Нет. Мы действуем по указке сердца. Но сердца наши принадлежат партии». Вот сердца их принадлежат партии глупости, косности и твердой уверенности, что литература или культура… как говорил Любимов: «Они думают, что культурой можно управлять». Нет, друзья мои. Культура управится с кем угодно. А вот культурой управлять невозможно. Это Он (показывает наверх) только может. И то Он, по‑моему, не вмешивается.
Или по очень важным моментам.
Да.
Заканчивая тему шестидесятников. Будет еще время, когда поэзия будет собирать стадионы? Или это было настолько уникальное стечение обстоятельств?
Слушайте, я все время это говорю и боюсь, немножко надоел с повторением. Но все‑таки скажу еще раз. Сколько стадион «Лужники» вмещает?
В свое время сто тысяч вмещал. А сейчас, по‑моему, меньше.
Ха‑ха‑ха! Я смеюсь. А сколько вмещает интернет?
Ну, интернет. У нас только на Стихи.ру – миллионы пользователей.
Ну! Вот вам ответ. Такой гигантской аудитории…
Просто раньше надо было прийти на стадион. А теперь можно, сидя дома, смотреть Литклуб.TV.
Конечно, это удивительно. Спасибо тебе, господи, что я дожил до этих времен. Что между стихом, возникшим в моей голове в полночь, и его публикацией возникает, ну, четыре минуты. Все. И уже отзывы идут. Сразу. Секунда.
А вы активно пользуетесь интернетом?
Часа три‑четыре‑пять, конечно. А если потный вал вдохновения, как у Ильфа и Петрова, куда денешься, сидишь сутками. Это все глупость говорят – интернетзависимость. Это от себя зависимость. А что, у Толстого не было зависимости…
Все зависит от того, чем в интернете заниматься.
Разумеется. Конечно.
Скажите, а у вас есть понимание, видение, представление о том, а как вообще поэзия развивается?
О, это такая дамочка! Скажу я вам. Так же, как в любви, никогда не знаешь, в какую сторону сердце колыхнется, и у тебя, и у твоей возлюбленной, так и в поэзии. Я знаю только, что она удивляла, удивляет и будет нас удивлять своими неожиданными поворотами. Совершенно неожиданными. Конечно, пока нетрудно предсказать, что в ближайщие годы пока по‑прежнему будет господствовать… вот Хлебников написал: «О, засмейтесь, смехачи!» – поэты-смехачи. Это без уничижительного. Да.
Девушка в прозрачном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Ты зачем своим торгуешь телом
От большого дела вдалеке.
Иртеньев написал. Как‑то так ложится на душу сразу же. Ироническое отношение к жизни. Стихи Саши Черного. Обэриутов. Господствует Хармс. Так что на ближайшее время – это. Потому что очень уж действительность какая‑то такая, смешная. Поэтому ироническое отношение к миру и недоверие ко всякому пафосу. В этом смысле я перед вами мастодонт, и мамонт, и ихтиозавр, потому что ирония – да, конечно, ирония. Но никуда не денешься и от… То, что есть в Вознесенском, в Маяковском. – мне не чуждо. Я все‑таки восхищаюсь – перед господом, перед женщиной, перед природой, перед мирозданием, перед Эйнштейном, как это все сотворено и создано. Этот восторг во мне живет. Это немодно.
Это, кстати, меня и поражает. Я хотел оставить это на финал передачи, но, ладно, коли вы уже сейчас сами произнесли слово «восторг». Меня тоже поражает ваше такое отношение к мирозданию, такое восторженное. Ведь подтекст этого практически: аллилуйя!
Ну, разумеется. Но это старая традиция русской поэзии. Возьмите стихотворение Державина «Бог». Куда денешься. Но это естественно. Восторг.
Хотя потом, начиная с Лермонтова, пошло вот это: поэт мрачный такой, пессимистичный.
Да, потом это стало господствующей интонацией. А у Некрасова уже вообще в плач перешло. Там рыданье сплошное – «выдь на Волгу, чей стон раздается…»
А смотрите – поэзии накоплено много, чудовищно много накоплено прекрасного – Золотой век, Серебряный, шестидесятники…
Да Серебряный век – такая же выдумка, как и шестидесятники. Ну что серебряного было в Гиппиус или в Марине Цветаевой?
Вздрогнешь – и горе с плеч
И душа горе
Дай мне спеть моей горе
Черной ни днесь, ни впредь
Не заткну дыры.
Дай мне о горе спеть
На верху горы.
Та гора была как грудь
Рекрута, снарядом сваленного.
Та гора хотела губ
Девственных, наряда свадебного
требовала та гора.
Океан в ушную раковину
Вдруг ворвавшимся ура!
Та гора гнала и ратовала…
Что тут серебряного? Ученица Маяковского!
Ну да, да. Вопрос вот в чем. Все равно это, как ком, накапливается, одно, другое, направления разные, течения. От этого поэзия становится сложнее?
Конечно. Ну что вы. Такие сложные образы, как «облако в штанах». Или «как кричит полоска света, прищемленная дверьми». Это не могло возникнуть у поэта XIX века. И XVIII века. Это только в XX веке могло появиться.
А эта сложность – может быть она одной из причин ослабления читательского интереса к поэзии? Хотя вы это оспариваете. Может, она в излишней усложненности? Что поэты стали слишком поэтами для поэтов? То есть только специальные люди могут в этом понимать?
Дорогие мои телезрители (смотрит прямо в камеру, на зрителей), я верю, что вы все можете понимать. Все, о чем я вам сейчас говорил, и все, что я вам сейчас читал, это может нравиться или не нравиться. Но понимать это может каждый из тех, кто меня слушает. Я не верю, что Теория относительности сложна. Она ничуть не более сложная, чем Ньютон. Ньютон еще посложнее будет. Я не верю, что Лобачевский сложнее Евклида. Сложность мира – она всегда одинаковая. Конечно, мир и бог умнее человека. Вне всякого сомнения. Мы все время сталкиваемся с высшим разумом. Ну и, как говорил Христос: «Царство божие нудится». Нужно какое-то усилие. В свое время к Евклиду обратился фараон из династии Птолемеев: «Что там за геометрия, что за наука такая, покажи мне». Тот стал ему показывать: a, b, c. «Ой, сложно. А покороче нельзя?» Ему Евклид и говорит: «Дак ведь царского пути в геометрии не существует». Так что, конечно, царского пути ни в поэзии, ни в физике не существует. Везде нужны внутренние усилия.
Но я вовсе не хочу сказать, что те, кто не понимает поэзию, – такие нехорошие люди. Есть еще природная расположенность. И с этим тоже ничего не поделаешь. Одни люди влюбляются, а другие – нет. Спокойно проживают свою жизнь. Вот те, кто спокойно, рационально проживают свою жизнь, это не значит, что они глупы или плохи. Так они устроены. Конечно, сказать, что поэзия так уж совсем для всех – это все‑таки преувеличение. Это раньше говорили: «Искусство принадлежит народу». Никому не принадлежит искусство. Даже тому, кто пишет стихотворение, это стихотворение не принадлежит.
Как только он его написал, оно уже не его.
Да нет, еще раньше. Как сказал Вознесенский: «Стихи не пишутся – случаются… Не написал – случилось так». Самые лучшие стихи – те, которые возникают сами.
Ну а с тезисом Александра Сергеевича, что «поэзия должна быть глуповата», вы, наверное, категорически не согласны?
Ее вырывают из контекста. Так же, как Пастернака вырвали из контекста: «Не впасть, как в ересь, в неслыханную простоту». Так ведь «как в ересь» не впасть. Это ж не значит – давайте будем еретиками и все. Но в ересь можно, можно и в простоту. И у Пушкина это письмо к Вяземскому. В ответ на его стихотворение «Русский бог». Стихотворение длинноватое. По теперешним временам – дерзкое. «Бог прокисших сливок, вот он, вот он, русский бог». Антиклерикальное. Сейчас бы сказали: оскорбляющее чувства верующих. Сейчас бы его упекли. Но Пушкин ему отвечает с поэтической точки зрения: понимаешь, оно слишком умное. А поэзия, прости господи, должна быть глуповата. Так что Пушкин очень точно показывает эту тонкую грань. Глуповата, но не глупа же.
То есть это и сказано по конкретному поводу и сказано так, чтобы не сильно обидеть, такая мягкая форма.
Чтобы не сильно обидеть умнейшего человека России, написавшего Конституцию для Польши и т. д. и великого знатного вельможу. Так аккуратненько ему пояснить, что он по призванию своему все‑таки не совсем поэт.
А вы любите всякий эксперимент в поэзии? И как отличить эксперимент, который ради эксперимента...
Никак. Нету таких. Ну, кто‑то, может, занимается, это делает, но я этого не понимаю. Что значит эксперимент в поэзии? Но ведь тогда вся жизнь – эксперимент. Вот я иду на свидание. Это ж тоже эксперимент. Может, да, а может, нет. Может, сложатся отношения, может, не сложатся. Вот я объясняюсь в любви, опять же, может, будет отклик, может, не будет. Есть момент, не эксперимент, а другое. Видимо, и люди тоже разные. Вот я из такого теста создан: когда вижу что‑то непонятное, я радуюсь. И мне интересно – я этого не понимаю, я этого не знал, ну‑ка, ну‑ка, а вдруг там чего‑нибудь есть. А большинство, наверное, людей все‑таки настроены…
Это пугает. Непонятное пугает.
Да. Непонятное пугает. Но тоже можно понять – мало ли чего. И у них срабатывает охранительный инстинкт. А не обманывают ли? Как говорил Маяковский: «Не шулер ли?» Ну какой эксперимент? Как говорил Маяковский:
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая!
и окровавленную дам, как знамя.
Вот и весь эксперимент.
Ну, хорошо, скажем, не эксперимент, а яркая форма. Вот как отличить, когда яркая форма просто ради яркой формы и у нее нет ничего за душой. Или форма яркая, которая подкреплена глубоким содержанием?
В поэзии – это я твердо убежден – форма со-дер-жа-тель-на (говорит по складам). Самые мудрые, самые глубокие мысли, высказанные просто так, вне какого‑то звукового оформления, метафоры, в поэзии не звучат. И в то же время там иногда звук значит гораздо больше, чем смысл самого обычного слова. Как‑то про мою поэзию Генрих Сапгир сказал замечательные слова: «Тут, в отличие от концептуализма, важен не сам заостренный смысл слова, а то, что кроется за этим смыслом».
Есть такой гений. О нем мало говорят, бурбонской крови, преподавал в Казанском университете – профессор Бодуэн де Куртенэ. В 12‑м году он создал теорию фонемы. Что такое фонема? Вот, допустим, слово «свет». Оно состоит из звуков – с в е т (произносит звуки). Давайте уберем какую‑нибудь букву, любую. С, допустим – вет. Уже не совсем понятно, что это «свет». А иногда можно изъять несколько букв, а все равно смысл остается. Вот это и есть нечто, стоящее за произнесенным и за звучащим. Мы можем сказать: корова, курова, кирова, и все равно поймем, что «корова». Звуков множество, а фонема там, за ними, смысловая кроется какая‑то одна. Вот я думаю, что будущее, отвечая на предыдущий вопрос, за фонемной поэзией. Какой‑то виртуальный, таинственный смысл, который кроется за произносимыми словами. Это Фет в свое время подметил, что, «не знаю сам, что буду петь – но только песня зреет».
И еще у меня есть текст, исчезающий на глазах. Вот смотрите:
Чижик‑пыжик,
Где ты был.
Чижик‑пыжик
Где ты
Был
На глазах исчезающий текст.
Или: человек рожден для счастья, как птица для полета. (Короленко)
Человек рожден для счастья, как птица
Человек рожден для счастья
Человек рожден
Человек
На глазах исчезающий текст.
Или однажды я написал в 88 году комментарий к отсутствующему тексту. Начинался он словами: «Этот текст является комментарием к отсутствующему тексту. В то же время отсутствующий текст является комментарием к этому тексту». И мне критик Данила Давыдов сказал: «Но тогда все является текстом». Я ему говорю: «Именно это я и хотел сказать». Некий текст, который как бы отсутствует. Молчание содержит в себе все слова, какие только есть на земле. С моей точки зрения, у поэзии есть большие перспективы в этом направлении.
Ну и потом вы знаете, поэзия все больше становится похожа на современную физику. На современную космологию. Это нетрудно проследить. Когда вы читаете современную космологическую статью или про какие‑то частицы, которые одновременно волна, и волна, которая одновременно частица, и вам говорят, что частица, которая сейчас здесь, вот тут (показывает на сторону груди, где сердце) на нее воздействуют, а она, может, на Марсе откликается без малейшего промежутка пространства‑времени. Это что? Это поэзия. Но это квантовая физика. Так что идет сближение. И еще одна вещь, очень важная. Физики открыли так называемый антропный принцип мироздания. Принцип этот гласит следующее: этот мир таков, как он есть, потому что мы на него смотрим. То есть когда мы на него смотрим, мы своими глазами воздействуем на него и творим его. Казалось бы. Марксисты бы сказали: субъективный идеализм. Да, субъективный идеализм, совершенно верно. Но это подтверждается современными физическими опытами. Так вот поэзия – это такая квантовая физика. Мы все время изменяем мир. Нет никакого мира. Он все время будет субъективней и субъективней. И в поэзии чем субъективнее, тем лучше. Хотя нас‑то учили – реализм, отражать. Ничего мы не должны отражать. Мы должны субъективное. Насколько ценится в физике практический результат и т. д., настолько в поэзии самое главное – субъективное, неповторимое ощущение мира. Которое нам дарит каждый великий поэт. Читаете Вознесенского – это Вознесенский. Вы его не спутаете ни с Маяковским, ни с Евтушенко, ни с Беллой Ахмадулиной. Ни в коей мере не спутаете. Так устроено.
Самое ценное в поэзии – это субъект. Поэтому поэзия – это доверие к человеку. Абсолютное доверие. Бесконечное. И этот человек – автор. То есть поэт. Я вообще против профессии критика. Переводится это как «острый судия». Не нужны никакие острые судии. И вообще не нужно ничего критиковать. Вот я встречаю женщину, я ж не начинаю: у нее нос не такой, у нее рот не такой и т. д. Я либо с симпатией и интересом смотрю, либо не испытываю интереса. Но критиковать не надо. Как можно критиковать человеческую душу? Мне очень не нравится, когда говорят, вот, графоманство. Что значит графоман? Что написал и у него не получилось? Ну, не получилось, ну и что? Но он что‑то выражал, что‑то хотел сказать. Что‑то важное для него. Он восхитился, что у него срифмовалось впервые в жизни: кровь – любовь. Ну да, он не знает, что до него это прорифмовало еще два миллиона авторов. Но что из этого? Он для себя‑то это открыл. Поэтому всячески приветствовать надо и поощрять то, что люди устремляются к поэзии. Влюбляются в рифму или пишут без рифмы. Это ж тоже смелость какая – взять на себя и вдруг написать стихотворение без рифмы. Ведь если нет рифмы, то должен быть образ, должна быть мысль, должен быть неожиданный совершенно там, внутри, ход. Это очень сложный жанр. Но я в последнее время тянусь обратно в рифму. Не потому что, как Пастернак, «впасть, как в ересь, в неслыханную простоту». Никуда я не впадаю. А просто так легче многие вещи сказать. Вот, думаю, расскажу‑ка я вот про те же шестидесятые годы. А потом думаю, зачем. Я вам сейчас стих напишу. Так что поэзия – это еще возможность краткого послания. Азбука Морзе, такая телеграмма. От бога к человеку, от человека к богу. От человека к человеку, что то же самое. Вознесенский на мое шестидесятилетие написал такое стихотворение:
Константирует Кедров поэтический код декретов.
Константирует Кедров недра пройденных километров.
Так, беся современников, как кулич на лопате,
Константировал Мельников особняк на Арбате.
Для кого он горбатил сумасшедший арбайтер?
Ну для кого горбатился? Для себя. Мельникову было приятно – вот, особняк на Арбате. Я был польщен, что мою поэзию он сравнил с этим замечательным строением на Арбате, которое находится в Кривоарбатском переулке. Это место прославилось тем, что там в отделение милиции доставили мальчика, который читал монолог Гамлета, Шекспира. Но еще Андрей однажды пригласил меня на ночной эфир, который длился три часа. Это в 94‑м году был мост между Нью‑Йорком, Иерусалимом, Тбилиси и Киевом. Андрей любил очень всякие мистификации. Он говорит: «Давай, будто бы ты поспорил со мной, что я не напишу стихи в эфире. А я напишу. – Вынимает такую амбарную книгу, у него там заготовки. И потом говорит: – поскольку тут рядом со мной Кедров, он меня вдохновил, и я вот написал». И прочитал стихотворение:
Раз, и два, и три, четыре,
С Костей мы сидим в эфире.
Вся Россия в эйфории.
Митингуют поварихи,
Гуси с шеей Нефертити
Нас за все приговорили,
Говорите, говорите,
Мы виновны, что отечество
У разбитого корыта.
Если это вас утешит,
Говорите, говорите.
Костя, не противься бреду,
Их беде пособолезнуй.
В наших критиках по Фрейду –
Их история болезни.
Костя, Костя, как помирим
Эту истину и ту,
Станем мыслящим эфиром,
Пролетая темноту.
По‑моему, гениально сказал.
Говори, не умолкай.
Ну что же, Константин Александрович, и напоследок несколько кратких вопросов. Какие бы три книги вы взяли с собой на необитаемый остров?
Хлебникова. Евангелие. И «Похождения бравого солдата Швейка».
Прекрасная компания (смеются). Какое слово вам не нравится, вы стараетесь его не употреблять?
Послушание.
А какое слово, наоборот, нравится, вы его любите, может быть, даже ассоциируете с собой?
Поэзия.
И что бы вы пожелали нашим телезрителям, многие из них пишут стихи, кто‑то прозу.
А можно немножечко развернуто? Чуточку?
Конечно.
Меня сейчас спрашивают: «Почему вам не близок Бродский? Разве вы не цените?» Ценю! «А почему он вам не близок?» Он все время рассказывает, как ему плохо. Ну, действительно, человеку плохо. Во‑первых, он умрет, во‑вторых, он болеет, в‑третьих, он теряет близких. Да мало ли чего, несправедливость кругом и все такое. Но, друзья мои, если я пишу и у меня получается стихотворение, это такая высокая награда, это такое счастье! Поэзия – это рай на земле. И если я пишу и при этом я несчастлив, значит, у меня стих не получился. Поэтому рай, счастье, радость, вот что я желаю нашим дорогим телезрителям и слушателям. Рай поэзии. Неважно, что этот рай в аду. Он всегда при нас.
И свет во тьме светит.
Друзья мои, на мой взгляд, потрясающий разговор. Поэзия – это рай на земле. И я зарядился какой‑то энергией радости и ликования нашего бытия, да, в котором действительно много страдания, но есть что‑то высшее. И этот заряд ликования я от Константина Александровича сегодня получил. Спасибо большое!
Евгений Сулес
