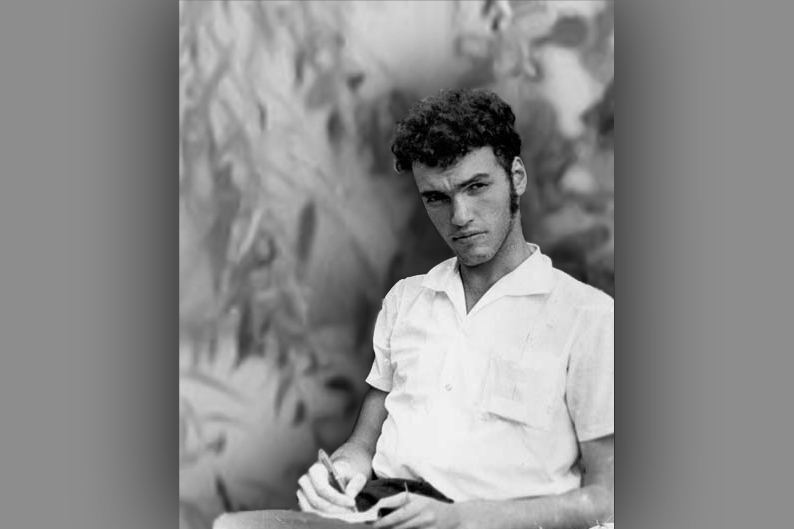Елена Семёнова
Борис Габрилович (1950 – 1970) – юный поэт, родившийся в Ростове-на-Дону в интеллигентной семье учёного-бактериолога и учительницы русского языка, не дожил даже до двадцати лет. При жизни было опубликовано только одно стихотворение «Падали капли…» (в 1968 году в газете Ростовского государственного университета «За советскую науку»). Однако Габрилович сумел так ярко и уверенно заявить о себе в кругу друзей и студентов филфака РГУ, что помнят его до сих пор. И не просто помнят: стихи Бориса друзья издавали ещё в машинописном самиздатском варианте (это были Алексей Прийма и Леонид Струков), в 1994 году Георгий Булатов выпустил сборник «Опереди волну», а в 2013 году трудами поэта, биофизика Бориса Режабека вышла книга «Птица падает в высоту». Авангардная поэма «АСУ НОЧИ ВСЕГО», которую Габрилович написал в соавторстве с Режабеком, была зарыта во дворе (друзья решили, что нужно оставить её до более свободных времен). В 2000-м году Режабек в компании друзей откопал её, она была публично зачитана и позже издана в Москве в альманахе «Лира».
На самом деле, понятно, почему помнят. Дело не только в несомненном таланте и индивидуальности, но и в горячем сердце (да простят мне этот штамп, но, кажется, тут данное выражение уместно) и мощной энергетике, которой заряжал этот парень. И ещё, пожалуй, в искренности. Не в простоватой открытости (Борис Габрилович уже в нежном возрасте сумел задать в текстах довольно высокую смысловую планку), а в восхищенной человечности, которой отзываются многие строки. Причина гибели уже никогда не будет выяснена точно. 1 сентября 1970 года он выпал из окна четвёртого этажа во время вечеринки на квартире студента мехмата Леонида Блехера, умер 4-го числа в больнице. Похороны его на Братском кладбище Ростова-на-Дону чуть не превратились в студенческую демонстрацию – друзья хотели нести гроб от вуза до кладбища на руках, но это было пресечено (вот ещё доказательство его популярности и признания в студенческих кругах).
В ростовской газете «Комсомолец» появилась статья «Тень на портрете», где все причастные обвинялись в систематическом пьянстве. Это была клеветническая версия, состряпанная с лёгкой руки известных органов, которым не нравилась вольная натура поэта. (Конечно, не мог прийтись ко двору автор, писавший «Что-то режет глаза... / Тяжело голове... / Боль в сердце – непостижимая.../ Перережу / колючую проволоку вен / и сбегу / из концлагеря жизни!») Другая версия – случайность. Третья – самоубийство. Как пишет Режабек в своем мемуаре, причиной стало «крушение “любовной лодки”, ощущение невыносимости жизни в атмосфере, пронизанной злыми излучениями “наблюдателей”, понимание невозможности остаться собой и ненужности (как ему казалось) стихов». Но есть ещё одно непроверенное свидетельство. Поэт, очнувшись в больнице, сказал: «Очень хочется жить». Так что, исходя из его жизнелюбивой натуры, хочется сделать предположение – виноват был порыв, состояние аффекта.
Что отличало Бориса Габриловича от других стихотворцев, так это стремление к экспериментам, а значит – к той свободе словесного выражения, которая, увы, была ещё невозможна даже в будто бы демократичные шестидесятые. Он восхищался изопами Андрея Вознесенского и творил в этом же ключе: два его изопа приведены в эссе Бориса Режабека в антологии «Уйти. Остаться. Жить» (кстати, в них заложен правозащитный посыл – как раз таки касающийся свободы слова и событий «пражской весны»). Притом что поэту, скорее всего, были недоступны сочинения футуристов (за исключением Маяковского), русских дадаистов – ничевоков, группа которых, кстати, оформилась в 1920-м году в Ростове-на-Дону, некоторые его произведения выполнены в концептуальном плане и отчасти предвосхищают опыты концептуального искусства 1980-х.
Например, стихотворение «В музее» 1967 года оканчивается такими строками: «А ещё – / там висели окна, / как эскизы новых картин». Резкая смена оптики, поворот в сторону нового искусства, которое состоит не только в отображении реальности или видений, но в самой идее, которая может изменить сознание реципиента. Что это, как не предвосхищение будущих экзерсисов Ильи Кабакова и Виктора Пивоварова? Или, например, вместо хрестоматийных «Размышлений у парадного подъезда» у Габриловича читаем «Размышления по дороге в прачечную» (кажется, что эта отсылка неслучайна, она добавляет элемент стёба): «лягупосредидороги / ираскинурукиноги // пустьпомнеоравылезут / пустьпомнемашиныездят // еслинеонигодаведь / всёравноменяраздавят». Намеренное слияние слов создает ощущение несерьезной народной песенки, напева-бормотания и таким образом снимает пафос, не отменяя, впрочем, тотального смысла. Есть стихотворение «В жизненном море», состоящее из рядов типографских звёздочек: в нём можно видеть метафору тайного стихотворения жизни, над которой бьётся каждый поэт. Такой же катрен из звездочек «Молчание» отсылает к манифестарному стихотворению-жесту Казимира Малевича: «Цель музыки молчание».
Впрочем, эксперименты – это значительная, но не доминирующая часть архива Бориса Габриловича. В плане поэтической техники он развивался вполне себе традиционно – он остро чувствовал звук и ориентировался (видимо, в унисон с горячностью своей натуры) на таких ораторов XX века, как Маяковский и Вознесенский. Так что во многих его стихах легко определяема залихватская маяковская (она же вознесенская и евтушенковская) рифма, основанная иногда на лёгком созвучии («непостижимая – жизни», «позванивая – незнания», «пульт – пульс»). Но поэт, критик Константин Комаров, написавший статью о Борисе Габриловиче для антологии «Уйти. Остаться. Жить», точно подметил, что это было не слепое подражание, а прилежное ученичество. Что форма вроде бы похожа да вот содержание иное: «Вообще, Габрилович, вопреки общему пафосу эпохи, отстаивает «негативное» – слабость, падение, проигрыш. <…> Это понимание онтологии поражения, осознание, что «полёт с падением неразделим», прославление падения во времена апофеоза полёта обнажает в Габриловиче удивительную для совсем молодого человека зрелость и мудрость».
Собственно, речь об одном из лучших и, наверное, ключевых стихотворений Бориса Габриловича «Баллада о падении»: «А я вот славлю не нападение, / а отступление и падение, / ведь на дымящихся баррикадах / не только драться – и падать надо! / Я славлю падающих от усталости, / я славлю каждого, кто опускается / на два колена перед святой, / хрустальной, словно олень, красотой». Это же нужно было в ситуации массового советского зомбирования не только осмелиться, но и суметь – повернуть оптику вспять и увидеть, ощутить ситуацию глазами не победителя, а проигравшего. Хочешь не хочешь, вспоминаются слова из Писания о том, что «будут последние первыми». Но взгляд Бориса Габриловича и здесь неоднозначен. В финале стихотворения он для расширения, переворачивания смысла использовал графику: строки можно читать, как сверху вниз, так и снизу вверх, что напоминает отчасти лестницу, отчасти ножницы.
и я когда-нибудь упаду,
в высоту!
падает
птица
как
Та же самая идея «проигравшего», но уже несколько по-другому обыгрывается в стихотворении и «хлопнет дверь как стартовый сигнал…». Здесь мы видим спринтерский забег: снова борьба, снова лирический герой стихотворения становится проигравшим, («ты не заметь как я споткнулся и упал / и больше головы не подниму»). Однако забег тут – метафора жизни в целом, поэт уже в столь юном возрасте понимает, что не нужно слушать тех, кто «орут с трибун подвыпивших», что у каждого «бегуна» своя дорожка: «уходят в небо ленточки дорожек / и мы стремимся именно туда / но каждый сантиметр всё дороже / и каждый ощутимее удар». Одновременно, аккуратно, как бы подложкой проводится тема противопоставления поэта и толпы, что особенно ощутимо в финальном, как бы специально отделённом, двустишии: «Какой, к чертям собачьим, стадион? / Перила. Ночь. По лестнице иду». Именно. Не стою и вещаю на трибуне, а один иду по лестнице ночью. Когда легче ловить вдохновение, сиречь божественное послание. Вообще, несмотря на максимализм, на романтику, от которой буквально лопаются многие тексты Бориса Габриловича, в них то и дело проскакивают не по юношески мудрые и визионерские образы: «и эти детские песочницы – / песочные часы веков / перетекает в них позванивая / наивный опыт стариков / в премудрость детского незнания»; «Мотались тени по поляне, / как ключ, надетый на брелок, / и становилась им понятней / вся призрачная суть берёз, / а я, / безглазый, / лепетал, / уткнувшись кулаками в Землю, / что наступила слепота, / пока не понял, что прозренье».
Два разных автора, писавших о Габриловиче, Константин Комаров и Борис Режабек, сошлись в одном – в том, что поэт пронёсся со скоростью метеора, успев зажечь сердца многих людей. Потому что был не только поэтом, но и выраженным лидером. Как свидетельствуют друзья и рукописи, между студентами шел постоянный живой творческий диалог. Борис при встрече по разным случаям «на коленке» писал посвящения, шутливые экспромты. Например, другу Александру Абрамовичу подарил свое фото с надписью «А. Абрамовичу от Б. Габриловича 20.3.70», а на обороте написал: «Тебе, как моему сопернику в любви. Ты тоже влюблен в слово» и присовокупил подпись с сердечком. В другой раз, когда они сидели на скамейке на улице Пушкинской (это запечатлел на фото Игорь Керч), Борис написал в блокнот Александру: «Мы на скамеечке сидели, / не замечая, что седеем». Габрилович вместе с Режабеком написали поэму «Надсолнух подсознания». Так потом называлась стенгазета, выполненная в виде круга с лепестками, на которых были стихи, рисунки, эссе. Помимо поэзии Борис пробовал себя в сценарном мастерстве – написал киноповесть «Ковыляя, кот идет». Тогда все были увлечены «битлами», и популярности Габриловичу добавило то, что он перевёл ряд их текстов, в том числе целиком альбом «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера». Нам сегодня, наверное, трудно представить в полной мере, как раскрепощённые, парадоксальные сюжеты и образы песен легендарной четверки восхищали поэта, жаждущего свободы слова и мысли. Остаётся только жалеть, что чья-то воля – Божья или самого Бориса – пресекла его путь на старте.
Стихи Бориса Габриловича
ВЫСЛУШАЙТЕ МЕНЯ
Как колёса требуют смазки,
как детишки требуют сказки
или как письмо почтальона,
на исходе любого дня,
так я требую исступлённо,
чтобы выслушали меня.
Я уже на вашем пороге,
я уже вытираю ноги,
я стою у дверей, звоня,
посидим за бутылкой вместе,
уделите мне лет так двести.
ВЫСЛУШАЙТЕ МЕНЯ
***
Как-то ночью, глядя в окно,
я услышал: чтоб людям не ждать,
стихи печатала ночь
на печатной машинке дождя!
Кто поймёт их, кто их услышит?
Утром солнце висит высоко...
Просыхают
на шиферной крыше
строчки
первой книги
стихов.
***
…И когда я уже начинал засыпать,
растворённый ночным июнем,
он пришёл и сел на мою кровать,
весь прозрачный, хрупкий и юный,
и сказал, коснувшись моей руки,
осторожно, как пробуют лёд:
«Я пришёл из-за самой дальней реки,
где разбился последний пилот.
Он лежал на земле, прижимался к ней,
и дыханье его кончалось,
только лишь в одном голубом окне
голубая свеча качалась.
Я не спас его, я пошёл в твой дом,
и когда ступил на порог –
то в дверях столкнулся
с последним сном
и его пропустил вперёд.
Так вставай! Я тебя назначаю лететь
вместо тех, кто разбился, мчаться...»
Я воскликнул:
– Кто ты?
– Я – Новый День,
я пришёл. Я уже начался.
ТРОЛЛЕЙБУС
Он всё-таки возник, троллейбус,
в квартале сером и пустом,
когда я размышлял, колеблясь,
не лучше ли пойти пешком.
Ругал я транспорт и судьбу,
меня сомненья одолели:
троллейбус этот в самом деле
существовал когда-нибудь?
А он по своему маршруту
пришёл, покачиваясь чуть...
И я подумал в ту минуту:
вот так бы мне когда-нибудь
дойти до вас, как кровь по венам,
как боль по лезвию ножа,
когда в меня не станут верить,
когда меня устанут ждать.
***
О, тоненько звеня, воскресни,
блесни кометой,
натянутая струнка песни,
ещё не спетой…
уже не спетой.
***
и хлопнет дверь как стартовый сигнал
рванёмся к финишам и каждый к своему
ты не заметь как я споткнулся и упал
и больше головы не подниму
уходят в небо ленточки дорожек
и мы стремимся именно туда
но каждый сантиметр всё дороже
и каждый ощутимее удар
и я не добегу а ты уж выдержи
шпарь через боли планки не задев
пускай себе орут с трибун подвыпивших
пусть мы им не по нраву не за тем
на старте хлопнул пистолет и он
велел искать на спринтерской беду...
Какой, к чертям собачьим, стадион?
Перила. Ночь. По лестнице иду.
***
Не радостная невесомость,
не водка на чужом пиру,
а лишь истерзанная совесть
толкнёт к бумаге и перу.
Стихи слагаются о боли
и больше нет на свете тем,
всё остальное – лишь обои,
которые сорвут со стен.
***
Мне снился сон, как будто рифмы
Вываливаются из строк,
Как окровавленные бритвы
Из разжимающихся рук –
И сразу сталь
Покрылась ржавью,
Погасла синяя звезда…
Мир развалился. Он держался
На рифмах, а не на гвоздях.
***
а если до утра не спал ты
гадая что же впереди
чтоб окончательно не спятить
скорей на улицы иди
пройди по спинам их одетым
непромокаемым дождём
где бродят старики и дети
и знают что нас дальше ждёт
там словно в вечности летящей
вобравшей запах слёз и смол
старушка опускает в ящик
своё последнее письмо
не ведая о том письме
детишки во дворах подсолнечно
глядят на солнце все в песке
и эти детские песочницы –
песочные часы веков
перетекает в них позванивая
наивный опыт стариков
в премудрость детского незнания
МИНУТНОЕ
Что-то режет глаза...
Тяжело голове...
Боль в сердце – непостижимая...
Перережу
колючую проволоку вен
и сбегу
из концлагеря жизни!
***
И вдруг в природе каждый атом
стал ясно виден – и глаза
сместились в сторону куда-то,
и оказались вне лица,
и забрели в седую чащу,
бездомные, как светляки,
вбирая каждый лист летящий
и каждый поворот реки.
Мотались тени по поляне,
как ключ, надетый на брелок,
и становилась им понятней
вся призрачная суть берёз,
а я,
безглазый,
лепетал,
уткнувшись кулаками в Землю,
что наступила слепота,
пока не понял, что прозренье.
БАЛЛАДА ПАДЕНИЯ
Л. Блехеру
А я вот славлю не нападение,
а отступление и падение,
ведь на дымящихся баррикадах
не только драться – и падать надо!
Я славлю падающих от усталости,
я славлю каждого, кто опускается
на два колена перед святой,
хрустальной, словно олень, красотой;
о, эти осени листопадные,
о, эти осени звездопадные,
о, снегопадные зимы эти!
Как парашют – за спиной планета...
Что б мы ни делали – всегда летим.
Полёт с падением неразделим!
Пусть с мотоциклов на страшной скорости
слетают навзничь на травы скошенные,
пусть аргументом, решившим спор,
с размаху ваза летит об пол,
причёской слипшейся упав на пульт,
пусть физик слышит эпохи пульс,
пусть
и я когда-нибудь упаду,
в высоту!
падает
птица
как