Елена Мордовина
Самое интересное в истории с поэтом Фёдором Терентьевым – то, что многие до сих пор считают, будто мы имеем дело с блестящей литературной мистификацией, хотя от этого автора остались рукописи стихотворных текстов, дневниковые записи, короткие рассказы, письмо с сообщением о его смерти от друга и попутчика, несколько фотографий (на кухне с сигаретой, в горах Армении, вдвоём с подругой Майей Виноградовой). Но даже страничку в Википедии сейчас нельзя считать доказательством существования человека – отсюда и сомнения нашей цифровой эпохи.
По мере того, как материалы выкладывались в группе «Ненужное никому» во ВКонтакте, посвященной творчеству Федора Терентьева, даже самым закоренелым скептикам становилось ясно, что это не выдумка, не фальшивка, не мистификация. Бог ведь тоже кроется в деталях.
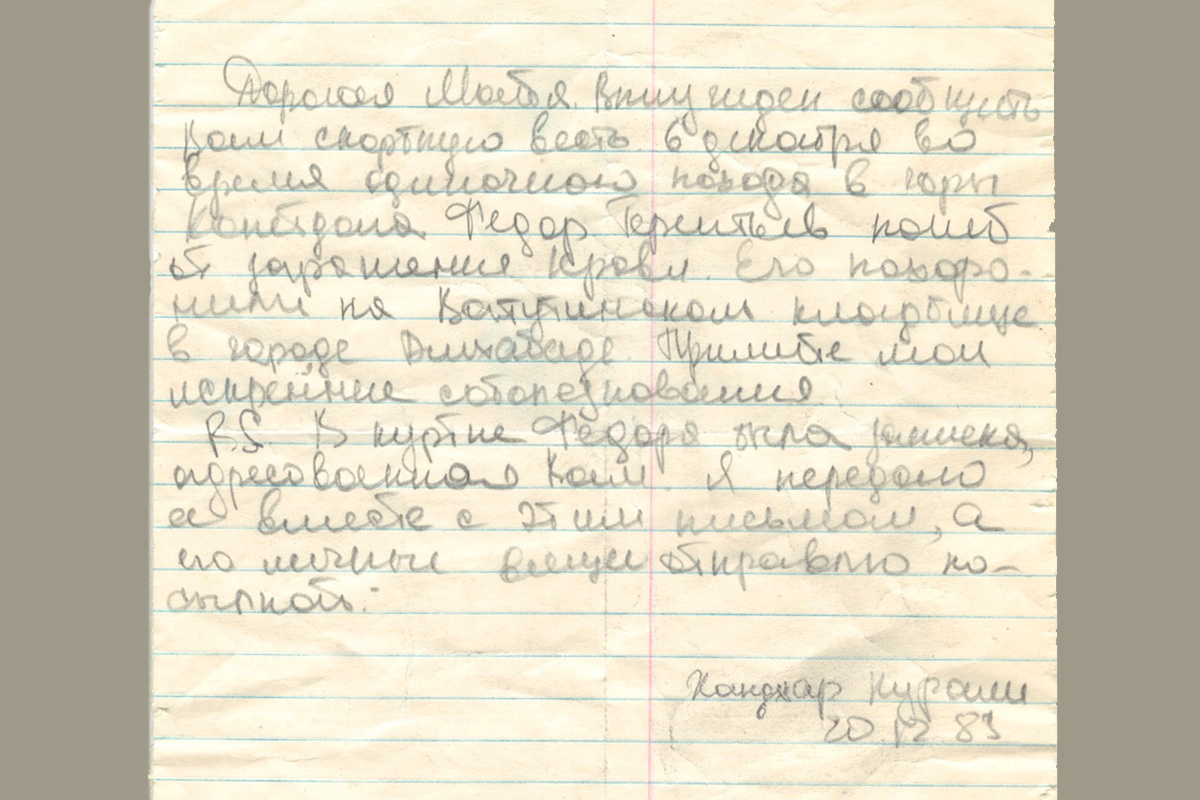
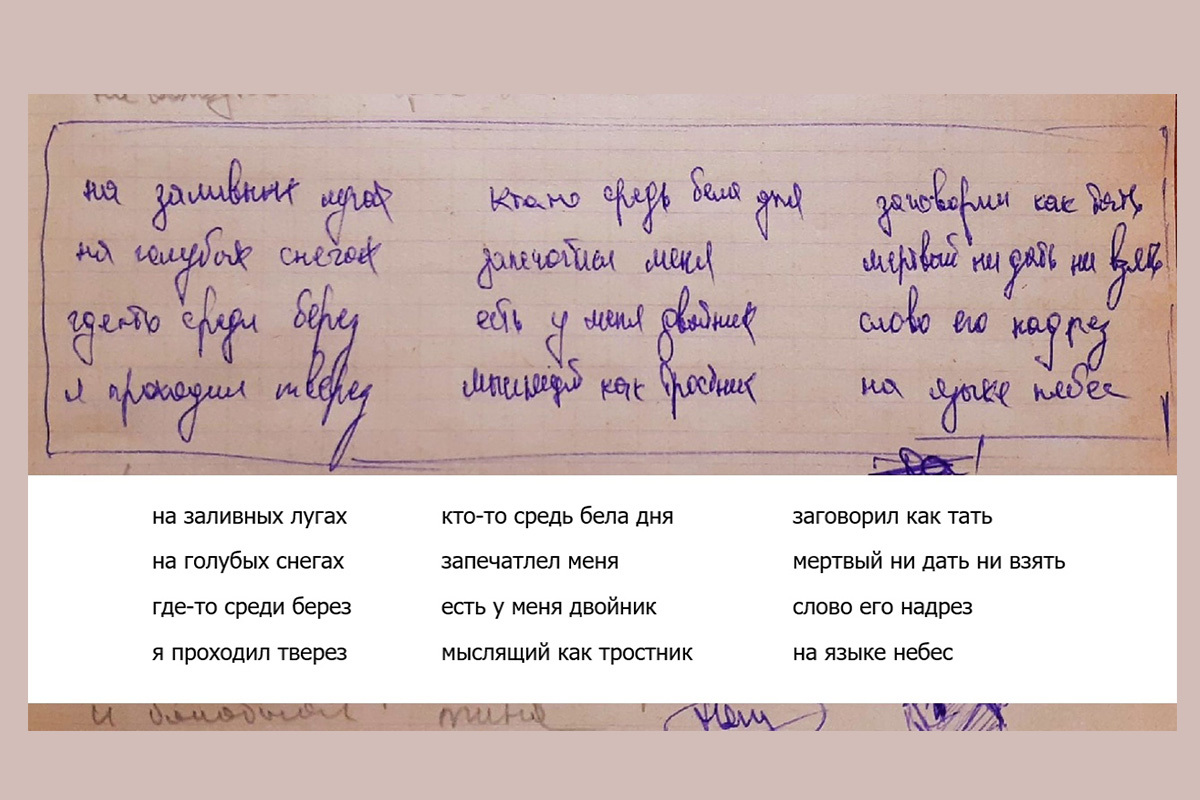
Ознакомившись с материалами группы, я перестала сомневаться, что этот человек действительно существовал, но сам факт этих сомнений ставит всех нас перед зияющей экзистенциальной пропастью. Проходит не так много времени после смерти поэта, хорошего поэта – и вот, его жизни как будто бы и не существовало. Хорошо, если есть друзья, которым есть что о нём вспомнить, хорошо, если родились и выросли дети, хранящие в альбомах фотографии. «Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». Реальность такова, что люди исчезают, как дым, и от них остается только текст – текст, который реальнее нас самих. Ну, ещё, может быть, записи в учебной части ВУЗа, ЗАГСе или приходской книге. И не стоит надеяться на соцсети и электронные архивы – даже у бабушкиного альбома больше шансов сохраниться в памяти внуков, чем у вашей странички в Фэйсбуке.
Итак, поэт существовал. Поэт жил.
Фёдор Терентьев родился в марте 1944 года – его родители познакомились в военном госпитале, где отец лежал после ранения, а мать работала медсестрой. Когда война окончилась, семья поселилась в Новгороде-Северском, а после смерти отца мать с мальчиком, которому было на то время шесть лет, переехали в Чернигов. В Чернигове Фёдор окончил школу и техникум.
«Про учёбу в техникуме он рассказывал неохотно, – вспоминает о поэте Майя Виноградова, – обычно упоминал только то, что бродил по улицам и много читал. Гораздо чаще Федя вспоминал детство в Новгороде-Северском – возвращение птиц, разлив Десны по весне, маленькие деревянные лодки, походы с отцом за грибами и на охоту».
В 1963 году будущий поэт Фёдор Терентьев поступил на филологический факультет киевского пединститута имени Горького. В семидесятых годах много разъезжал по стране – жил в Москве, Киеве, Ленинграде – и писал стихи. «Он часто влюблялся – и сразу делился этой неожиданной новостью с друзьями». (Андрей Маяцкий), «Говорил он мало, а пил много». (Александр Камелин).
При жизни его стихи нигде не публиковались.
Трагически погиб 6 декабря 1983 года в горах Копетдага. Похоронен в Ашхабаде.
С 2016 года тексты поэта расшифровываются и публикуются в группе «Вконтакте», посвящённой его творчеству. Позже его стихи начинают появляться в различных интернет-изданиях. В 2020 году Фёдор Терентьев посмертно стал лауреатом Первой независимой петербургской премии «Georgievich Award. Heaven 49».
Поэзия Фёдора Терентьева – это квинтэссенция жизни бунтующего советского интеллигента эпохи 70-х: пластинки, музыка, прокуренные комнаты, заваленные окурками хрустальные пепельницы, гости, встречи, дружеское общение – всё это невозможно подделать, и это больше, конечно же, чем пласт бытовых воспоминаний и стопка фотографий. Это короткие, ёмкие, концентрированные формулы жизни 70-х, это неповторимый узор времени, в котором, как в дыму прокуренных кухонь, мы различаем поколение наших родителей – то, чем они жили, то, о чём говорили, то, что мы пропускали мимо ушей когда-то и чего не понимали. Это бесценно.
Приметы времени у него не утрированы, как это было бы, случись кому-либо действительно «подделывать эпоху», они тонко, почти незаметно, как в живой жизни, проявляют себя в его текстах, как незначительные на первый взгляд мазки, которые вдруг придают объём всему живописному полотну эпохи: «тетради и долги / открытка из тайги» («я снега повидал…»), «платки и сандали, охапки купюр, / текстиль адюльтера и тонкий гипюр…» («Она улыбалась (деревья в июле…)), «рюмки лафитной не выпил, / ушел под курантовый бой («И рюмки лафитной не выпил…»).
Осень – кислое пиво
и намокший табак.
Я не часть коллектива,
я на вольных хлебах.
(«Осень – кислое пиво…»)
Фёдор Терентьев тонко чувствовал музыку, подолгу искал интересующие его пластинки, слушал по ночам то, что удалось раздобыть у фарцовщиков.
«В начале семидесятых, когда Федор снова оказался в Киеве, произошел один характерный случай. По вражеским голосам он услышал песню «Isadora» Гуннара Викланда – шведского исполнителя, которого в то время часто крутили на европейских радиостанциях. Фёдору настолько понравилась песня, что он тут же принялся обзванивать всех знакомых фарцовщиков в поисках пластинки. Спустя три месяца он всё-таки сумел её достать». (Майя Виноградова)
Или вот, уже из дневника поэта:
«Пахельбель гений. Его музыка – совершенный часовой механизм, ещё горячий космос, ручей в зеленой листве или сон, который я видел много лет назад. Надо же – уже почти утро. Вся квартира в табачном дыму. Как же мне теперь уснуть?» (Запись в дневнике, осень 1971).
Отсюда – эта мелодичность, этот предельно выверенный образный ряд, насыщенный, тягучий, гармоничный, спокойный, как будто караван, плывущий над пустыней: «над чайной пиалой», «я живу в халифате печали», «штандарт из лилового крепа» («Не скажу что сценарий красив…»), отсюда все это размеренное, змеящееся, азиатское: «Куда несётся черный полоз…» («Зима 37»).
В каждом стихотворении, в каждой строчке бездна смыслов, его можно расшифровывать бесконечно, как симфонии Прокофьева, каждой строфе требуется глубокий литературоведческий анализ.
В этой связи хочется упомянуть блестящий анализ некоторых произведений поэта, сделанный Егором Кировым: анализ стихотворения «В северной столице…», анализ стихотворения «Замолчи их как ветер сквозной...».
Однако даже человеку, далекому от литературы, не составляет труда заметить, что центральным, осевым – arbor mundi, простите за невольный каламбур – в его творчестве является образ дерева. Дерева вообще или дерева – как воплощения какого-то особого мира. Славянского, небесного, запредельного, азиатского, восточного – какого угодно. Образ черной шелковицы – восточного, темного – всеми своими ветвями сплетается у него с образом смерти (цвет, тактильные ощущения, символизм красного и черного – все это ощутимо, как будто сам раздавил горсть тутовых ягод в ладони и ощутил смерть):
красное скоро сбудется,
въяве произойдёт,
смерть на печали удится,
вот и ко мне придёт –
руки мои окрасятся
тутовой синевой,
боже, какая разница,
как умирать с тобой
(«Кровь моя остановится…»)
Он чувствует эти древесные соки – будто кровь, текущую в его собственных жилах. Очеловечивая ботанику, преимущественно древесную, он делает её почти равноценной вечности:
напоминает кровь зари
цвет древесины
(«я встал от шума бензопил…»)
Деревья у него – всегда люди:
деревья режут
как эллинов у Фермопил
(«я встал от шума бензопил…»)
снег это мясо на копьях берёз…
(«Снег это царство, снег это мясо на копьях берёз…»)
Впрочем, деревья на Руси – они всегда почитались как люди, может быть, как предки, может быть, как духи, но всегда – как собеседники (вспомним хотя бы шукшинский разговор с берёзками – тоже из той эпохи).
И когда поэту плохо – он идёт к деревьям:
Он идет к деревьям, наколота на жердняк
неуёмной луны пожелтевшая склера
и темнота, набухшая, как синяк,
на подреберье сквера.
(«Предпочитая надломленность, вышедший из конуры…»)
Да он и сам – иногда дерево, иногда трава:
я был ковылём…
(«Отвернуться во что бы то ни…»).
Растительный мир неумолимо влечёт его, призывает к немому разговору:
мне нравились растения всего
на свете больше – может, бессловесность
меня влекла
(«Не спрашивай тогда уж, отчего…»)
Символически истолковывать его «древесную метафорику» можно бесконечно, с уверенностью можно говорить только о том, что эта любовь насквозь пронизывает многие его тексты:
деревья, деревья, деревья,
деревья, до тёмных кругов
смотреть на деревья, хоть зренья
не хватит на десять шагов…
(«Оставь сочетание цвета…»)
Читатель невольно задается вопросом «Почему?» – и тут же, в текстах, находит на него ответ:
потому что деревья, как черти,
поднимают татар из листвы
(«Десять тысяч словес о деревьях…»)
Вот здесь ключевое. Упоминание «татар» здесь – это не просто обозначение отдельного, конкретного народа, это метафора прошлого, (древнерусского, монголо-татарского, нашего), прошлого, которое (вернемся к древесному) прорастает сквозь нас:
и выходит с метлою игумен
к темучинам из монастыря.
Это осень, Орда Золотая,
горизонт обступившая гнусь;
и свернулась в котле курултая
византийской лисицею Русь
(«Десять тысяч словес о деревьях…»)
Выходя из этой заворожённости растениями, поэт вдруг резко меняет темп, ускоряется, его увлечённость жизнью переходит в творческую неврастению (по его же собственному определению: «от растений до неврастений…»):
антимоний и гипертоний
через что-то такое на «о»
и на «у» в отражениях разных
как приятны слова без согласных
.о и .у.ы .е ..аю. .о.о
(«от растений до неврастений…»)
Начинается игра с буквами и звуками, как у Артюра Рембо, но у Фёдора Терентьева они имеют не только цвет, но и гримасу, и сияние – даже нимб:
плотоядное К поперёк лица
травоядности вопреки
(«вол и волк не рифмуются до конца…»)
но зато у вола на высоком лбу
в новый месяц сияет Ц
не его ли привязывают к столбу
за сияние на лице
(«вол и волк не рифмуются до конца…»)
Из кубиков букв – к кубикам слогов и слов:
Небо син, деревья жёл,
а блокнотик бел.
Я забыл, куда я шёл,
для кого я пел.
(«Небо син, деревья жёл…»)
И он так взвинчивает эту игру – до таких высот (мене, текел, упарсин), что дух захватывает:
Говорил, что губы син,
а потом взахлёб –
мене, текел, упарсин,
мене, хлюп и хлёп.
(«Небо син, деревья жёл…»)
В хороводе его персонажей рискуешь утонуть: это персонажи и его времени: «дева с глазами сельди» («местной богемы леди…»), и времени давнего: «по Невскому ходит босая / графиня ей снится магнолия / большая война Хокусая» («холодная ночь меланхолия»); мифологические и сказочные – они также здесь, рядом, в его времени: сивилла («сивилла, я лежал на талом снеге, / она ко мне испытывала жалость, / когда в моём пальто искала деньги…» («Сравнение заката с рыбьей кровью…»)), луна-мусульманка, Лилит, Мнемозина («Осень – кислое пиво…»), «встречала русалыня / целуями алымя…» («зелёные липкие…»), «Аладдин лежит в песках Магриба…» («Я целую губы Аладдина…»), «тишина как тарелка толченого лавра / напоминает внутренности кентавра», «сердце кентавра огромно не меньше вымени / предки кентавра и все его чада вымерли» («азиат или грек или кто-то на ф из утробы милета…»), «мясо кикиморы в грязной посуде» («Как на письме передать этот кашель?»); исторические персонажи – они тоже здесь: «труп Марата висит над Парижем…» («двадцать три я в руках декаданса…»), Хаммурапи («Хаммурапи умер в зарослях дикой малины…»); а также выдуманные им самим полумифические существа: «где по ночам поет мясоптица…» (Запись в дневнике, 1977).
Из этого полиморфного хоровода сложно выбраться, он уводит нас в своеобразную «эстетическую бесконечность», в которой, однако, царствует натуралистический, мясной, нутряной (внутренности, сердце, вымя), утробный символизм.
Но и сам он в этом хороводе – такое же мифическое существо, как и остальные его персонажи:
я давно лаццарони, люмпе́,
китоврас, древнерусский поэт…
(«Отвернуться во что бы то ни…»)
Он – всё и он во всём:
и мне снилось: я был ковылём,
переулком и кинокефалом,
черт-те чем без крови и костей,
серебром, пожелтевшей луною…
(«Отвернуться во что бы то ни…»)
Он вышел ненадолго: из древнерусского Новгорода-Северского – в древний Чернигов, затем прошел по древнему Киеву – и туда – в небесный Ершалаим, к ликам Иверским, Казанским («Россия, Азия Минор…»).
Зачем вышел-то, китоврас? – хочется спросить у него.
выпить водки на стылом ветру,
постоять над своим кенотафом.
(«Отвернуться во что бы то ни…»)
В чем правда, брат? – хочется ещё спросить вдогонку. А его уже след простыл… Да и не ответил бы.
Не пиши мне, я брошен во тьму
мифологии или дурмана,
я сижу в азиатском дыму…
(«Отвернуться во что бы то ни…»)
Он практически не выходит из этой заданной ему рождением фантастичности, мифологичности, славянской и православной образности, затягивающей, словно сканная вязь.
Эта филигранная, сочная живописность особенно ярко проявляется в описаниях женщин: «розовела румянилась кожа / чернозёмилось снежное ложе» («двадцать три я в руках декаданса…»), «ухмылки твоей гильотина…» («двадцать три я в руках декаданса…»), «ты река полноводная бодро / колыхаются волны как бёдра» («двадцать три я в руках декаданса…»), «Скажем, губы голубок / радикально красны – / это лирика юбок / в самиздате весны» («Осень – кислое пиво…»), «зелёные липкие / улыбки улиткие…» («зелёные липкие…»), «химеры с глазами шинели» («холодная ночь меланхолия…»), «ты вечная фройлен ты вьёшься / речушкой по синим лугам» («ты вечная фройлен ты вьёшься…»).
И в этом градусе своей гениальности, в этой импульсной «заряженности» поэт дает нам шифр своего времени, отражённого в вечности.
я захожу в твой темный двор
и вижу темный лик
Казанской, Иверской, любой
языческой, морской
и той, что пела про любовь
на Автозаводской,
(«Россия, Азия Минор…»)
Тут и Малая Азия, и Азия вообще, как такой сверхгеографический русский хронотоп в миноре, и тёмные лики икон проглядывают сквозь это всё – азиатское, скифское, языческое.
Нельзя не согласиться с тем, что у Федора Терентьева – потрясающее чувство России. Поэт пытается понять, что здесь происходит («то ли кровь подмешали в бензин, / то ли это такой коммунизм» («Отвернуться во что бы то ни…»)), пытается определить свое место в её судьбе («я насекомый (россия – кокон) / снится аккад по церковным строкам» («глефой над облаком вырезан глиф…»)), то восторгается, то извиняется за эту восторженность: «прости мне и эту французскость, / и эту Россию во мне» («Оставь сочетание цвета…»), то готовится утонуть, умереть в ней.
закрывая к полуночи жёлтый блокнот
той России, в которой я только что сгинул,
в углекислую речь обратив O₂.
(«Долго жить не хочу и, наверно, не буду…»)
о безоблачном небе над русской землёй,
о поэте со стажем в своей трудовой,
о высоком и белом, о царской глуши,
перечеркнутой мелом на кромке души.
(«Запиши, как рецепт для засолки икры…»)
Он, поэт-китоврас, легко уходит от земной Руси – туда – в небесный Ершалаим, который для него (и не только для него) – скорее отражение града на Неве, чем реально существующий город в далёких палестинах:
Но потёк из головы
южный виноград,
превращая град Невы
в Ершалаим-град.
(«Небо син, деревья жел…»)
Да он, собственно, всегда и пребывал там, где-то рядом с тем небесным Ершалаимом. Кажется, его никогда не покидало ощущение близкого рая, разговор с ангелами и архангелами мог произойти и в далёкой степной глуши, и в городском трамвае:
«Когда я увидел архангела Гавриила – а это был именно Гавриил, потому что в руках у него приютилось комнатное растение – меня больше всего поразил запах его одеколона, напомнивший гэдээровскую парфюмерию и влажный древесный дым. Никто в трамвае не узнал его, не обратился к нему и не поприветствовал, как полагается всем земным существам при встрече с чинами небесными. Я склонил голову в знак почтения и предложил ему совиньон блан, хоть это был и не совиньон блан, а обычный белый мускат». (Отрывок из записи в дневнике, 1973).
И вся эта неизглаголанная благодать ещё и удивительным образом связана с языческими покойницкими мотивами:
в небе путает труп, в самых его низах,
где-то у райских створок.
(«Снег это царство, снег это мясо на копьях берез…»)
Что, безусловно, знаменует обновление и расширение канонов теологического в поэзии.
и скачи коридорами морга
как архангел на этом коне
(«не стреляй но спокойное эго…»)
Ведь это потрясающе, как он из нижней топики – с бахчи, из равнинной пыли – вдруг уходит в верхнюю, где «в распахнутой сини» его встречает тетраморф (тот самый, хорошо нам известный «тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей» и т.д.) – и снова от гроба Господня глядит прямо в ад. Дух захватывает от этих взлётов и масштабов внутреннего зрения.
Сухая равнина, бахча,
над листьями спелые дыни
сияющих звёзд, хохоча,
глазами в распахнутой сини
вращает слепой тетраморф
и вторит у гроба Господня,
что ад – это тлеющий торф…
(«Сухая равнина, бахча…»)
И он загодя, ещё за три года до гибели, берёт нас, читателей, в это путешествие в смерть, мы словно заранее (впрочем, как же заранее? – если читаем мы из этого, из нашего времени – снова он играет со временем легко, как до этого – с буквами и звуками) сопровождаем его:
«Смерть обволакивает, как хоровое пение. Византийская листва шелестит. Кирие элейсон, Кирие элейсон...» (Запись в дневнике, 1980).
Сколько там получилось земных лет? 39? Или земных зим?
«Всё-таки у нас для обозначения возраста человека и длительных промежутков времени лучше использовать слово «зима». Например. Пушкин умер в 37 зим. Памятник “Тысячезимье России”. 10 зим назад я был молод и умел любить. Всё сразу становится на свои места». (Запись в дневнике, 1978).
Cтихи Фёдора Терентьева
***
За то, что я временно здесь,
за грифель, за говор нездешний
мне подали черную смесь
похмелья – я пил под черешней,
а после, как рыба, глотал
клубящийся дым стихотворный,
и молча глаза заплетал
в акации сумрак узорный.
Теперь я рыдаю в платок
о царстве, в закат погребальный.
Коснешься небес – кипяток,
а нет – так поток аортальный.
Мне страшно глаза закрывать –
всё кружится, всё полыхает,
густая трава, как кровать,
и девушка благоухает.
Но я по асфальту иду,
шатаясь, как в ад переброшен, –
к обиде моей и стыду,
воротит от вида горошин,
раздавленных ягод, голов
воловьих в глазах у прохожих;
а хочется – озеро слов,
на синее небо похожих.
1977
***
Оторвись от земли, снег до белых колен
поднимается, нечем дышать,
нечем выкупить розовых глаз гобелен,
обожать тебя и обнажать.
Я чужой человек, на заводе моём
я гляжу на часы и в дыму
возвращаюсь домой в тишины окоём,
я люблю тебя, но не приму.
Как сомнамбула ходит под черной луной,
может быть, так и мне до зари
утонуть в этой горькой любви водяной,
захлебнуться у этой двери.
Я нашептывал имя твоё в темноте,
как ругательство, кровь на губах,
нет, не имя, а только тоска в наготе
и предательства скрежет в зубах.
Уходи, отвернись, ты надежда и боль,
красноярское небо во рту
почернеет, когда ты прошепчешь любовь
и шагнёшь за неё в пустоту.
1969
***
Почувствуешь, когда меня не ста
на этом све – автобус кольцевой
идёт пустым, но заняты места,
я вижу дым и слышу голос твой:
«Шиповник и рябина на столе,
густая синь, холодный коридор.
Мы никогда не выпьем божоле,
не посетим Шинон или Шамбор.
Я здесь умру – и здесь я буду жить,
а ты лети, но местные дворы
позволь травинкой сонною вложить
в твои тетради, – нет, в тартарары. –
Я знаю, что ты любишь облака
сильней всего, но пьёшь не оттого,
что жизнь твоя как лишняя строка,
а оттого, что смерть сильней всего».
1979
***
Кровь моя остановится,
черная шелковица
(я говорил «шелко́вица»
в детстве, я мог ветвиться),
красное скоро сбудется,
въяве произойдёт,
смерть на печали удится,
вот и ко мне придёт –
руки мои окрасятся
тутовой синевой,
боже, какая разница,
как умирать с тобой
здесь, на краю отчаяния, –
от высоты и тягот
или же от молчания,
словно от чёрных ягод?
1974
***
Не спрашивай тогда уж, отчего
мне нравились растения всего
на свете больше – может, бессловесность
меня влекла, когда я видел местность,
едва пересечённую врачом
больницы, где я сам пересечён
был скукою, шеллачною микстурой,
отравой-темнотой-температурой,
и снились мне, сплетённые со словом,
растения в растворе марганцовом.
1979
***
То-то мне снился лес,
и наклонялась к лесу
туча, меня, повесу,
било водой, я лез
пахотой, чернозёмом,
гусеницей, жуком
к луковицам знакомым
и воробьям на корм.
Ели меня, клевали,
видел я кровь и желчь,
мальчик на сеновале
труп мой пытался сжечь,
брюшко моё украли
красные муравьи:
двигались по спирали
внутренности мои.
1980
***
Это я в синей куртке с той стороны реки
в липкой листве июля, влюбленный в L,
пальпировал волны, как шейные позвонки,
пока горизонт желтел.
Язык застывал во рту, раздавленный абрикос
сочился и тёк закатом над животами нив,
я нашёл это небо в зелёных глазах стрекоз,
буквально увидел в них.
Я спрятал его под курткой, ладонями осязал,
за мною гналась осока и жалил гнус,
и обнажённая ночь выскочила на вокзал,
надеясь, что я вернусь.
1979
***
местной богемы леди
пена и болтовня
дева с глазами сельди
лучше поймет меня
вычурна и тосклива
как об отъезде весть
даром что некрасива
что-то морское есть
1976
***
Небо син, деревья жёл,
а блокнотик бел.
Я забыл, куда я шёл,
для кого я пел.
Нумерация с хвоста,
рыба с головы,
люди с чистого листа,
а стихи увы.
Иудейский глаз плотвы,
пойло задарма,
наплывает сон-травы
голубая тьма.
Наполняя желоба
водосточных труб,
льется кисло-голуба
из порезов губ.
Я плыву по этой тьме
водорослею,
и моллюск вручает мне
тишину свою.
Отличается она
от земной тиши,
как от красного вина
белые вирши.
Водяное ли и лью,
рыбье хлюп и хлёп
прочитаю, как пролью,
пропою взахлёб.
Ночью выбросит на брег,
а найдут к утру,
скажут – выпил человек
и пошел к Петру.
Но потёк из головы
южный виноград,
превращая град Невы
в Ершалаим-град.
Он рванулся из пивной
к ледяной реке
с прибауткой водяной
и плотвой в руке.
Но забыл, куда он шёл,
для кого он пел,
говорил, что небо жёл,
а деревья бел.
Говорил, что губы син,
а потом взахлёб –
мене, текел, упарсин,
мене, хлюп и хлёп.
1977
***
вол и волк не рифмуются до конца
в пасти волка блестят клыки
плотоядное К поперёк лица
травоядности вопреки
но зато у вола на высоком лбу
в новый месяц сияет Ц
не его ли привязывают к столбу
за сияние на лице
вопреки словарю я возьму лицо
и для волка и для вола
не огорчайся тёмное деревцо
знающее слова
1975
***
утром я люблю курить на балконе
потому что небо такое же как на иконе
поглядеть на обычных птиц на их тёмное оперение
на то как с ветки на ветку прыгает стихотворение
потому что каждое слово на языке зелёном
мечтает быть осуществлённым
а когда начинается дождь и на фабрике дым густеет
душа моя сворачивается и пустеет
капиллярная молния бьёт и шумит листва
мне кажется что я микроб внутри огромного существа
другие микробы его называют бог
а я вот опять не смог
а бывает и так что утро не утро а просто хмары
в такие дни мне кажется что я очень больной и старый
и глаза у меня влажные как стираное бельё
быть может поэзия это всё-таки не моё
может я всё придумал и в действиях самурая
нет никакого хайку и никакого рая
1978
***
Самоедство что самоубийство;
самокрутка, а в ней колдовство,
маяковство ли, дионисийство,
плутовство или прочее -ство.
И клубятся пролёты и петли,
лезвия, револьверы и проч.,
только вместо поэмы о пекле –
чернозём, морфология почв.
А затем перочинный, бычиный,
лучше разг., чтобы с кровью у ног,
черновой, значит красноречивый,
чумовой, так сказать, некролог.
1979
***
Ещё луна в бутылке пива,
ещё я падаю красиво
у Заболоцкого в тетради,
на рваной плоскости, во взгляде,
у слов кастрюля и кристалл
ещё я мухой пролетал.
Я трогал лапками чернила,
царица мух меня любила,
над телом розовой севрюги
мы танцевали вальс и буги,
в глазах поэта дым вился...
Но это описать нельзя.
1977

