Борис Кутенков
Я с подозрением отношусь к так называемой «смысловой» поэзии. Всецело согласен с известным определением Олега Юрьева: «Я пишу стихи для того, чтобы узнать, о чем они» – как бы апологией стихов, рождающихся здесь-и-сейчас, а не перелагающих в рифму заранее данные сюжеты. Богатство метафоры и многоплановость ассоциации, то, по отношению к чему язык служит лишь посредником, неизменно несет больше, чем, может быть, ясное и легко распознаваемое, – но лежащее в стороне от поэзии. И стихи Долиной – с их уверенным смысловым началом, со множеством примет наличной действительности, – как будто не должны мне нравиться. И, конечно, слава Богу, что в них есть «божественная подноготная» – та музыка, которая выступает как самостоятельная субстанция, как проблематизация («действительность, поставленная под вопрос», по Паулю Целану), а не заданный ответ; как союз разнонаправленных истин. Хотя и авторская позиция, и ответ (с неизменной утешительной нотой), и понимание истины – тоже есть.
Вот гора осыплется, обвалится.
Человек обидится, оскалится.
Вот он смотрит, как бездомный пес.
Пусть уж у него чересполосица.
Пусть он со своей бедою носится.
Лишь бы только помнил. Лишь бы нес.
Я с подозрением отношусь к излишне диалогичной поэзии (мне скорее близко данное Владимиром Новиковым определение искусства как «надкоммуникативного», находящегося немного над – собеседником, смыслом, да хотя бы и адресатом, образ которого и ситуация трансформированы до художественной реальности). О, сколько же в «Маленьком Флобере» имен собственных. Иногда возникает впечатление, что стихи – как отданные долги (для этого, видимо, наступает время с годами. Мне с каждым годом это все понятнее). «Страшно расстаться с Юрским…». «Встречаться раз в году, / А может быть, и реже». (Об этой адресованности, работе с посвящениями кстати, – одно из ответвлений нашей сегодняшней беседы с Вероникой Аркадьевной). И тут вновь вспоминается Пауль Целан: «…стихотворение, если оно настоящее, сознает сомнительность своего происхождения; подходить к нему с уже сложившимися непоколебимыми представлениями – значит, в лучшем случае, пытаться предвосхитить то, что в стихотворении становится предметом отнюдь не самоуверенного поиска». Долина здесь вновь развеивает стереотипы – приходя со своими сложившимися правилами, повелительными наклонениями, настояниями; окутывая волной обращений к самым разным, реальным собеседникам, – и заставляя принимать это безоговорочно. В силу все того же «лирического флогистона», который за рамками наличной действительности, – и о котором мы поговорили в интервью.
Можно было бы сказать, что она занимает промежуточную нишу между «массовой» и «изысканно-элитарной» поэзией (мне это разделение кажется достаточно условным, и тем не менее от него не деться). У нее нет искусственного позитива или нагнетания грусти, которая отличает поп-письмо. Долина с нами прежде всего честна. Неудобно честна. Боляще честна – и это делает ее поэтом, а не «массовиком».
А жизнь не хотела
Устроиться сытно и сдобно.
И пулей летела,
И было за все неудобно.
Ее можно назвать наследницей шестидесятничества (скорее не экзальтированный Вознесенский, а мудро-драматичная Римма Казакова или даже Роберт Рождественский в лучших их традициях). Словно бы посланницей старших, призванной донести их фольклор, их наследие. Но появляется вдруг ее тезка Тушнова: «Как говорили женщины вокруг... / Не пережить трех человек у автомата? / Меняются, пожалуй, север – юг / Местами, и теперь иная дата…». Не мной замечено, что известная строка Тушновой уже нуждается в оговорках для читателей/слушателей младших поколений, не считывающих этот «автомат». Выступает ли Долина как чистый постмодернист, сопровождающий оговорками свое «люблю» (по известной, не помню чьей, формуле постмодернизма: «до меня уже многие говорили подобное, и поэтому я говорю: “Как сказал такой-то в своем произведении, я тебя люблю”)? Скорее – как голос поколения, многих поколений, связанное с которыми обобщенное оказывается выше личного. Хотя и личное неразрывно связано с коммуникацией – с обращенностью, эстетикой паролей на разных уровнях. «Колыма» – в приведенной ниже цитате – один из множества паролей исторических, вполне распознаваемых, но не столь очевиден другой пароль – ирония: ведь ясно же, что не стать ни «примадонной», ни «королевой», и личную Колыму превозмочь не получится. Но можно создать оборотную ситуацию и этим победить ужас – о котором одно из, возможно, сильнейших стихотворений «Флобера»: «В чем ужас-то. В непреодолимости ужаса…».
Позвольте, я таблеточку приму –
И стану примадонной, королевой,
Еще и превозмогшей Колыму.
Или – все та же ситуация «взаимообращенности» (авторское всеведение, с одной стороны, – и, с другой, ахматовское ощущение собеседника, «неведомого друга», которому, может быть, ныне и до лампы долинское «знание» – но находящегося в зале-то спасает это волшебство, великолепная иллюзия!):
Но давно я знаю – кто где горит
И поблизости, и вдали.
Хоть молчит, ни слова не говорит
Там, в конце. На краю Земли.
Позвольте, а кто эти «мы», эти «кто и где»? Это мы – читатели, с которыми (как она говорит в интервью) не теряет живую связь, к которым готова прийти на помощь негромкой интонацией. Это мир, где приходится быть для них «рукой-головой-шеей», а то и «просто сниться» – и этим выручать от все того же ужаса. Быть, как сказала однажды Татьяна Бек, «глухой к обидам и двужильной» (и об этом – и о Татьяне Бек, и о двужильности старших поколений – мы поговорили).
Мне не нужно ничьей ласки.
Я не верю в ничьи сказки.
О ней, о «ласках» и о «сказках», о старших и близких, о поэзии и коммуникации и о многом другом – наша беседа. Читайте.
Борис Кутенков
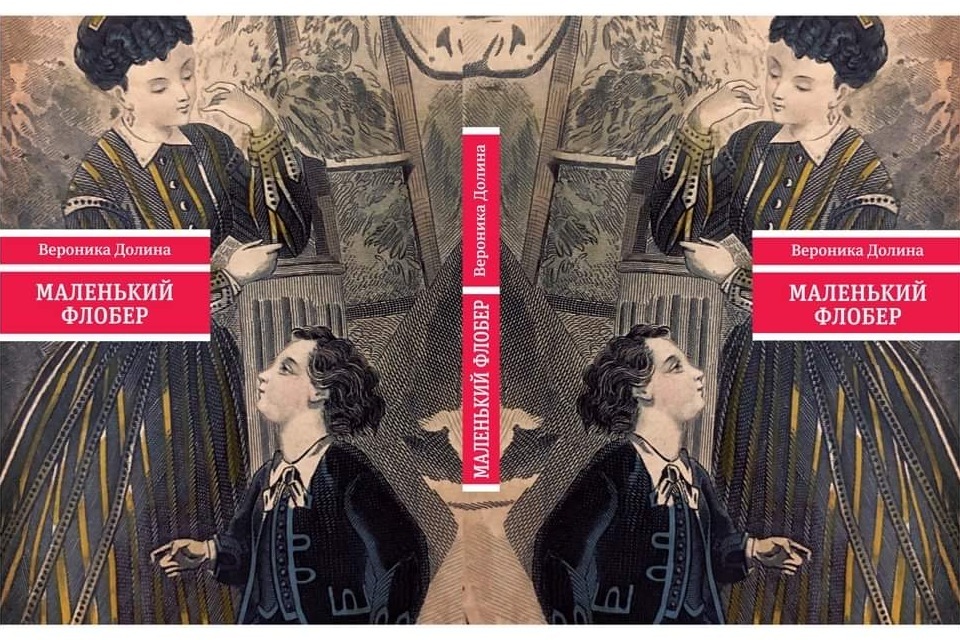
Интервью с Вероникой Долиной
Вопросы: Борис Кутенков
– Вероника Аркадьевна, как у Вас обычно проходит процесс составления поэтической книги? Делаете это сами – или полностью доверяетесь редактору?
– Нет, мне никто не помогает, и в прежние-то времена – более двадцати лет назад – это было довольно самопроизвольно. Но, если хотелось, то можно было опереться на редактора – правда, мне всегда мало хотелось. У меня есть свое драматургическое видение вещей.
На протяжении всей жизни я пишу с небольшими пропусками – но с двенадцатого года я пишу ежедневно, освоившись на Facebook и поняв, что это поле для публикаций с огромным количеством плюсов, поле с очень выразительными, разнообразными возможностями. Там есть и большие ловушки, но в целом это поле подарков, поле чудес. Я поняла это довольно быстро, будучи большим контактером и привыкши общаться в довольно разных пространствах. Поняла, что, будучи там, ты становишься мотивирован. Даже семье довольно трудно бывает объяснить, какого черта ты это делаешь каждый день, да еще и по два-три подхода. А на Facebook объяснять не надо – оно, это пространство, самообъясняющееся… Таким образом, я каждый год приготовляю книгу, и она волшебным образом построена по хронологическому принципу. Вот и поди-ка ты его измени. Нет, можешь вывернуть историю наизнанку, можешь перестроить сюжет. Но, давно обнаружив, что первейший фактор взаимодействия с миром – это и есть фактор времени, – на этой волне и существуешь. Я давно поняла, что хронопринцип наилучший, если повезло писать каждый день.
– То есть это подобие некоего отчета, лирического дневника, правильно я понимаю? Перед Вашей аудиторией…
– Перед аудиторией тоже – я не против, конечно…
– А перед кем в большей степени?
– Перед самой собой. Ты взрослый человек, к несчастью; у тебя нет репетиторов – вернее, ты сам и есть твой репетитор. А что, если случилось, как случилось со мной, что ты прибаливаешь? А что, если не три и не пять лет? А что, если так бывает везде в мире, как мы поняли в этом году, – но, на Руси особенно, тебе нет помощи? Научаешься сам. Научаешься создавать стихи потому и затем, что в них есть целительные возможности.
– Разные ли механизмы включаются, когда Вы пишете стихи и песни? По мне, все же это разные жанры. Песня – более «целительный», воздействующий непосредственно на сферу эмоций. Поэзия – как это замечательно определила Мария Степанова – «если и предлагает утешение, то очень специального свойства».
– Боюсь, что не очень разные. Возможно, приди Вы, Борь, к кому-то – ну ладно, обойдусь без имен, – тот будет рассуждать по-другому. А приди Вы ко мне – в моем лице Вы не найдете того, кто скажет: то одно, а это другое. Для меня песенная история – это отшлифованные стихи, а ничуть не наоборот, как принято считать у поэтического простонародья. Нам вменяют иногда – «нам» это тем, у кого песенное тело крепче стихотворного, – будто бы небрежность, будто бы лубочность… Я в последние годы тот, кто зверски упражняется сам с собою – и натренировал массу внешних и внутренних стихопишущих мышц. Я могу сказать так: идут стихи-стихи-стихи; садишься записываться в студии – и делаешь уже песенный альбом. И как же любопытно шлифуются в процессе этого стихи! Это целая технология, она очень симпатичная и интересная.
– У Вас очень домашняя манера общения. Есть ощущение, что люди, приходя и к Вашим стихам, идентифицируют Вас и Ваш стиховой образ. Тынянов, если Вы помните статью «Промежуток», видел в этом опасность для Есенина…
– Не буду притворяться: не помню эту статью, хотя когда-то Тынянов для меня очень много означал. Второе – как я сказала про Facebook – я большой контактер, – но я и гуманист. Мне очень легко общаться с людьми в доверительной манере: и писать, и существовать. Нет, это не камуфляж. Я, бывает, могу и пострадать от этого самого, а бывает, что и ничуть. Я всю жизнь существую на этом песенном поприще, оно меня преобразило не к худшему. На сцене я стою с 18 лет; в те – восьмидесятые – годы был спрос на эти гитарные упражнения. Еще живой Высоцкий; высоко стоит звезда только что уехавшего Галича; еще молод Окуджава. Нет культурного человека, который не знает этих имен и не может отличить одного от другого. Все могут, это дважды два. Таблицу Менделеева не помнят, а это помнят! Тут-то я и мелькни. Я тут же увидела массу вещей – эту пользу доверительной интонации, эту личностную убедительность – далекую от «березок», «солнышка лесного»… А лучше всего действует – если ты об этой убедительности немного печешься – твое собственное «я». Как на грех, я была читающая девочка; литературная составляющая жизненного процесса мне очень важна; я ее как разглядела в свои 10-12 лет, так и сейчас от этого не откажусь. Это путеводные для меня вещи – и книги, и их подлинные герои, и их апокрифические продолжатели. Словом, влияние книжки на человека мало-мальски мыслящего для меня не феномен, а совершенно естественная часть того, что есть. Поэтому литература естественно входила в мои стихи, но и реальность тоже: куда деваться от этого собственного «я»? А убедительность на сцене нужна как застегнутые штаны. В расстегнутых – ни-ни: если ты не убедителен – это позор навеки. Что нужно печься о своей артистической и поэтической репутации – я тоже увидела еще до своих двадцати лет, просто потому что я выступала. И насколько ты вызываешь доверие, и какую степень приязни.
Ну что поделать – я ведь совершенно не лучезарной, не есенинской внешности и манеры. Такие люди случаются. Но я не Любовь Орлова. Я просто, можно сказать, ходячая нелюбовь. Значит, нужно было что-то придумывать; в 16 лет я придумала роль эдакой «девочки с протестом внутри» – примерно Жанна Д'Арк. Я и в 16 лет сработала ораторию Жанны Д'Арк. Где дистанция меж моим артистическим образом и мной подлинной – мне уже затруднительно сказать в мои нынешние года. Будем считать, что я сама подлинность. Так оно удобнее.
– Но все же – Вы могли бы сказать о себе словами Татьяны Бек: «…Это я, а не образ из ребуса / На московском нечистом снегу / Ожидаю второго троллейбуса»?
– Конечно.
– Обратимся к разговору о природе поэзии. У критика Ирины Роднянской есть статья про «лирический флогистон» – про то вещество, которое заставляет вздрагивать при чтении стихов. Мне эти рассуждения всегда казались немножечко искусственными: как будто бы обобщается то, что задевает самого критика. Но более – из-за того, что эти «флогистоны» (нельзя отрицать, что они действительно есть) как бы отсекают, выбрасывают за грань восприятия более герметичные, интровертные поэтики. Есть большой соблазн воспринять стихи – даже сложные – на чисто эмоциональном уровне. Для Вас – скорее как для воспринимаемой, чем для воспринимающей, – существует эта проблема в связи с Вашими текстами?
– Проблема – нет. Но поиск осуществляется пожизненно. Он с тобой – не потому, что ты ищешь стихоуспеха: это было бы несколько нелепо, – на самом деле я антиэстрадный человек, хотя жизнь принудила когда-то вскарабкаться на некие эстрадные подмостки и на них еще и задержаться. Но я же против самопоказа, самоутверждения, саморекламы! Тут я не все секреты открою – или давайте мы сейчас проберемся к более простой форме вопроса и тогда я найду экспресс-ответ. У меня полно изобретений ответа на этот счет – откуда что берется и каким образом заваривается эта магическая составляющая. И есть одна очень недавняя, делиться не буду. Ну не буду. Это фокус. Более того – это рецептура русского стиха, на Руси: не моя, а все-об-щая. Универсальная, но для здешнего стиха – как заваривается формула. Антитехнология. Я это называю «связующее вещество»: то, без чего речи не может идти о поэзии. О стихах – сколько угодно, о песенном тексте – сколько угодно. О печатном тексте, о членстве в жюри – да, но о поэзии нет…
– Вы сказали «анти-» – вот это довольно загадочно…
– Ну, что делать, я такой природный нонконформист. И мне приходится с собой работать: быть и орудием, и плодом этого производства. Я, правда, еще и владелец того и другого. Противоборство разным видам мейнстрима – частый гость моего мира. И, кстати, не надуманный, я просто вижу его – откуда-то взявшийся из моей физики. А с технологией стиха лучше быть знакомым; ну, что делать – машину же мы обучаемся водить или плавать… Это присуще человеку, но немножечко обучиться недурно.
– Давайте проберемся на примерах к этому «анти-». Когда Вы назвали себя антиэстрадным человеком, что Вы имели в виду?
– Эстрада – это демонстрация во имя продажи. Это абсолютно рыночный предмет. Неплохо бы, но здесь не так. Западный мир обучает другому; хрупкого, тонкого, некрепкого в своей тонкости он обучает самопродаже. У нас хрупкость не конвертируется.
– Получается, Вы разделяете сценические подмостки – и эстраду как шоу-бизнес…
– Немножко да, но есть старое крепкое слово «эстрада». Этот призрак бродил вокруг таких, как я, долго и много. Он не протягивал к нам когтистые лапы, потому что это другой берег, между нами колоссальная пропасть. Но он был, и мы знали о его существовании: продать свой продукт и жить припеваючи.
– И правда, шоу-бизнес в широком смысле слова – как то, что не имеет к Вам никакого отношения. Или – не совсем уж никакого?
– Никакого. Но, понимаете, когда возникли 90-е годы – Вам почти уже незнакомые, – такая скромняга, как я, конвертировалась в важном – как бы это сказать – федеральном смысле. Практически приближающемся к универсальному. Посыпались переводы, заинтересованность разных стран, и не всегда восточноевропейских. То Англия, то Западная Германия, где еще цела была стена, то Япония. Была возможность конвертировать этот продукт. Померещилось. А тиражи мои тех лет? Вот звездные часы-то были. И больше никогда. Вот что надо запомнить: что это было на перекрестье эпох. Многие мои сверстники обожглись о те годы: не умерли, но некий удар током получили. Кто самолюбования, кто прекрасных фантазий отъезда, кто прекрасных иллюзий существования тут на Руси… Разные были фантазии. Кто своего землеустройства в какой-то живописной московской квартире. Кто своего устройства – как сопродюсера какого-нибудь мощного российского канала на гиперденьгах… Мои ровесники тогда получили такого вида шоки.
– Когда закончились эти годы?
– Полные двадцать лет назад: путинское время. Путинская двадцатка лет такого человека, как я, с рыночной точки зрения прибила к земле и вбила в землю. А также мою аудиторию. Мы же с ними одной крови – с моей публикой. У них не стало любопытства к жизни, фантазии, перспектив, денег, и мы с ними затрудненно дышим нашими слабенькими жабрами на этой сухой земле.
– Но этот успех – он пришел к Вам не совсем в 90-е годы, а чуть раньше, с перестройкой…
– Конечно. Я сказала про кульминационные годы. Мои самые большие залы – они были в начале 80-х.
– А как успех влияет на творческое развитие? Делает ли поэта зависимым от аудитории?
– Почти никак. Но я из тех игроков, которые придают своей игре завышенное профессиональное значение. Для меня публикация очень много значила, для меня выход книги значил очень много. То, как я зазвучала с пластинок, то, как это качественно звучало… А какова картина – увидеть в метро человека с моим виниловым диском; вот это волшебство, которое не забыть.
– Это Вы сейчас про 90-е…
– Будем считать, что я о времени до перестройки. Моя первая пластинка вышла в 86-м году, а записывалась в 84-м.
– Что изменилось дальше?
– Залы стали уходить. Стали закрываться. Геннадий Хазанов сказал мне, что, мол, больше я для тебя ничего сделать не могу – в относительно мягкой манере. А до этого я выступала там около двадцати лет. Это смешно, учитывая мои слова о нелюбви к эстраде, но мой портрет висел между Махмудом Эсамбаевым и еще кем-то другим. Я была в некотором роде деятель московской эстрады – камерной, но все же деятель. А пластинки выходили вы помните, да, каким тиражом? От трехсот тысяч до миллиона. Пластиночные фабрики были в каждой столице каждой республики. Ташкент, Таллинн, Рига, Питер, Минск… И на них на всех выходила часть твоего тиража.
– То, что произошло с залами, – из-за экономических причин?
– Последние двадцать лет? Это было силовым решением. Отнят был Политехнический: перестройка, новые владельцы – это все было на глазах. Такие, как я, и многие еще тогда другие пытались противоборствовать: это чудесный зал, с традициями, в самой сердцевине Москвы. Пусть в опасной, магнетической близости с Лубянкой – но мы же выступали как безумные в недрах Музея Маяковского, который вообще находится в подвалах Лубянки! Мы же были при его открытии, мы же видели его старый, мы же знали его дирекцию, их дружелюбие. Политех – это, в сущности, один из домов культуры Лубянки. А общество «Знание», которое располагалось там же? Это был облучатель, который установил Большой Брат – и облучал ими того, кого нужно. За своими гонорарами я приходила именно в Политехнический. Шефом общества «Знание» был именно Семичастный – волшебная фигура с Лубянки. Там на аттестации сидели все народные артисты города: и я проходила аттестацию в присутствии Ульянова, Нонны Мордюковой – всех, кто тогда получал свои 25-30 рублей за выступление в обществе «Знание».
Это я сейчас про большие залы. Ну и немножко про особенности нашего существования тоже. Политех очень жалко. Но и каждый Дом культуры – это был большой зал: от семисот мест до полутора тысяч. То, что называлось «Горбушкой», – ДК Горбунова в Филях – в нем я выступала с 1975-1976 гг. до самой середины девяностых.
А то, что были огромные поэтические и песенные абонементы в концертных залах и кинотеатрах, – Вы знаете, что была такая эра? Это про московские залы тех времен. Такие же залы были в Питере, Новосибирске, Минске, Киеве. Не маленький Дом актера, а колоссальный. ДК Железнодорожников – тысяча человек как минимум. Это все было потеряно и больше никогда к нам не вернется.
– Я понимаю, о чем Вы говорите, насколько могу это понять как человек другого поколения. Об этом много пишет Сергей Чупринин, главный редактор журнала «Знамя», на страницах которого недавно вышла Ваша подборка. Он, правда, больше об утраченном времени литературоцентризма – но думаю, это относится к искусству в целом.
– Почитываю, почитываю. Я не очень оплакиваю, но если быть культурологом – лучше быть в курсе этой истории. Это все-таки часть нашей психологии – и все-таки не XIX век.
– Людей помоложе сломил конец этой «истории». Они ожидали каких-то благ – а время не только не оказалось расположенным к поэту, оно отодвинуло его на последний план. Самый репрезентативный пример таких нарушенных ожиданий – Денис Новиков.
– Ну, что делать: у каждого своя генетика, свой код внутри. Про гибель Дениса Новикова многие говорят; тут есть и какой-то легендариум, и какой-то реалистический план. Кое-кто же и уцелел с тех годов. Но вот так страшновато погиб Илья Кормильцев, на которого все-таки молились. В некотором роде убиение средой… Этих имен целый ряд.
– А люди вашего поколения оказались более стойкими и сумели адаптироваться…
– Без сомнения. А люди старше меня на двадцать лет еще более стойкие. Те, кому сейчас восемьдесят – восемьдесят пять. И даже не факт, что всегда крепче, а гибче. Жизнеспособнее. Но там-то уж совсем дети войны. Это через какие голоды-холоды и растерзывания родителей прошли… Я, например, в сущности, ребенок благополучного детства и симпатичной юности.
– Ваши слова напоминают слова Ахматовой о травлях в шестидесятые: «Мы-то это все прошли еще в двадцатые годы». Только с обратным знаком.
– Печи прошли. Ну что поделать, человека закаляют печи. Немножко печей – и ты уже другой человек.
– Что меня, в частности, затронуло в Ваших стихах, – это свобода в транслировании примет масскульта. Ваша лирическая героиня может свободно сказать, что она «послушала хит-парад», «почитала детективный роман». Это придает лирике необычность – в том смысле, что об этом «не принято» в стихах…
– Что поделать, это фон жизни…
– Вашей?
– Публики.
– Но это в то же время не подыгрывание ей.
– Нет. Что поделать – я ценитель жизни, я вкушатель ее. Я кормитель моих здешних внуков. Я активный участник жизни – можно было быть попассивнее; скажем, живут же люди где-то в Переделкино, в башне из слоновой кости. А мои переборки с реальностью очень тонки. Низовая реальность присутствует в жизни – вполне себе и в моей. Но ей отдано ничтожное место. Хотя иногда топот ее сапогов по моей квартире слышен. Что до подыгрывания – тот, в ком есть оттенок рациональности, всегда будет плести кружева покружевнее. Напишешь сказочную реальность – от этого только выиграешь. Напишешь несказочную – это всегда зона риска.
– У Вас нередок и такой жанр, как лирическое эссе, – определение, данное Татьяной Бек стихам Владимира Корнилова. Мне кажется это определение интересным, потому что оно полижанровое – между лирикой и тематизированным посвящением. Такие тексты у Вас, в частности, посвящены Науму Коржавину.
– Определение Тани мне не кажется безукоризненным, но каждый в своей исторической колбе создает свои формулы, какие может. У меня много таких стихов – обращений к старшему поколению, к поэзии несколько старше, к поэзии значительно старше… Я со многими дружила. То, что нет стихов, связанных с Володей Корниловым, которого я знаю и помню, или, к примеру, Таней Бек, – это для меня некоторая аномалия. Это потому что я не вглядываюсь в сегодняшний календарь, и они исчезли из реальности чуть раньше, чем я принялась за стихи каждого года. А так у меня можно найти все что угодно – с Бахытом связанное, с Войновичем связанное, с Гладилиным связанное. Если мы об одном и том же говорим… Об одном и том же?
– Да, о тематических стихах, которые как бы проводят границу…
– И проводят, и, напротив, перебрасывают мостки. Еще в 80-е годы я написала стихотворение «Не пускайте поэта в Париж». Вы знаете, что у меня есть договоренность с публикой – я летом не пою зимние стихи, а зимой не пою летние? И этому фокусу очень много лет – двадцать уж точно.
– Как интересно. А если Вы вдруг нарушите конвенцию, чем это грозит?
– Это огромная редкость – или в очень специальном режиме.
– Ваши слушатели Вам об этом напомнят?
– Нет-нет-нет, не думаю. Так вот, в 84-м я написала «Не пускайте поэта в Париж» – спустя несколько лет после отъезда Галича. А в 80-м умер Высоцкий, и публика, которой было очень много, спрашивала: «А это что, вослед Высоцкому?». А это было не вослед Высоцкому и не в память о Галиче, а провожая Аксенова. Или, например, на шестидесятилетии Окуджавы я исполняла стихотворение в честь Натана Эйдельмана – а Эйдельман сидел в зале, как и Искандер, как и Жванецкий; наши скромные, почти домашние звезды тех времен – середины восьмидесятых. Помню их лица, а я тут нахально пою: «Историк земли русской, / Историк Натан Эйдельман…». Так что связок очень много. А это поколение еще и покидает нас совершенно феерически. Я оплакиваю – и не успеваю физиономию оттереть от слез… Я буквально только что позвонила Гладилину и сказала: «Толя, я иду на 85-летие Войновича, ты не хочешь что-нибудь написать?». Он говорит: «Я тебе сейчас пришлю мейлом, прочитаешь?». У меня до сих пор лежит этот мейл – распечатанный, конечно. И тут же не стало одного, а потом другого.
– Как появились стихи, посвященные Коржавину?
– Он тоже участник моей реалистической жизни – примерно с середины 80-х годов и до его последних лет. Году в 85-м он написал мне письмо, которое привез Евтушенко. Нашел меня где-то через журнал «Юность», выполнил просьбу отвезти такой-то девчонке в Москву. И я не знала, как переслать ему технически письмо: огромный водораздел был, бездна между этой страной и Соединенными Штатами… И тогда я написала песню: «Смеркалось, только диссиденты / Руками разгоняли мрак, / Любви прекрасные моменты / Не приближалися никак». О том, как Коржавин берет котомку на плечо и приезжает в Москву, а перед этим – как Евтушенко привозит мне письмо от него. Вслед за этой песней тут же и приехал Коржавин… Так что впечатление от непростоты появления моих стихов – оно пожизненно меня сопровождает.
– Хочу спросить о Татьяне Бек, которая дорога нам обоим. Что она для Вас значила при жизни и что – сейчас?
– Пытаюсь вспомнить, кто меня с ней познакомил… Понимаете, мир был так сословно устроен: многие знали многих. Мы с ней много выступали, она открывала мои вечера – в том числе в Доме Учителя, где она произнесла это волшебное словосочетание, что я – пожизненный участник войны Алой и Серой розы. Я думаю, что это устойчивое словосочетание – потом я встречала его где-то в литературе, а потом услышала чуть ли не впервые из уст Тани Бек. Я помню ее преподавательскую ипостась в Литинституте, ее чувство внутреннего достоинства – много ее ипостасей помню… Были хорошие поэты, ведшие свою скромную неэстрадную жизнь: они были, и для меня это был порядок вещей, что есть такая поэзия и такая Таня Бек. А гибель-то какая страшная! Страшно Дениса Новикова вспоминать, молодого и красивого обликом, но и постарше люди погибли под этими плитами сдвинувшихся времен.
– Примерно в один год: Новиков – в декабре 2004-го, Бек – в январе 2005-го…
– Если поднимать эти плиты, там будет целый ряд людей. Таню бесконечно жалко: она была хрупкой, маскировалась…
– Что она имела в виду под «участником войны Алой и Серой розы»?
– Вероятно, меня как противоборца серости. Я ведь всегда боролась: была во главе многих жюри, многих литобъединений… Через мой внутренний крепкий фильтр очень многое не просачивалось.
– В смысле борьбы с графоманией?
– Графомания – даже извинительная вещь. А вот эти советские выдвиженцы – захватчики, оккупанты всего, чего угодно…
– Они Вам потом это припоминали?
– Бывало. Среди них и сейчас есть цари, которые сидят в жюри по первейшим каналам телевидения.
– И Вас не хотят там видеть?
– Никогда и не увидят – честно говоря, я надеюсь. Но все те, кому я успевала объявить маленькую непримиримую войну, – они сегодня возглавляют все, что касается поэзии с гитарой.
– Хочу спросить напоследок, что такое правота поэта? Бродский писал, что поэзия – школа неуверенности, Мандельштам – что ощущение собственной правоты. У Веры Павловой, если мне не изменяет память, в одном верлибре приведены эти определения и есть остроумное заключение: «Не уверена. Ни в том, ни в другом». На чьей стороне Вы?
– Я – тот, у кого стих – и есть деяние, акт. И артистическая составляющая довлеет над стихами. Она берет стихи в руки и отжимает до такой степени, чтобы катарсическое начало явилось ну хотя бы к финалу – как это принято в театре. Артистическая и поэтическая составляющая состязаются в таком стихе – не на жизнь, а на смерть. Но поэзия – божественного происхождения, поэтому пусть поэт говорит что хочет, бедняжечка. А бедняжечка – потому что редко он на котурнах доживет, чтобы принять лавровые венки. Так нам не положено. Какими они огнеупорными были – Пастернак, Ахматова! Покрепче нас на несколько поколений; музыка, искусство – все им в помощь. Но мы-то не такие. Нам ничто не в помощь. Мы птицы в клетке.

