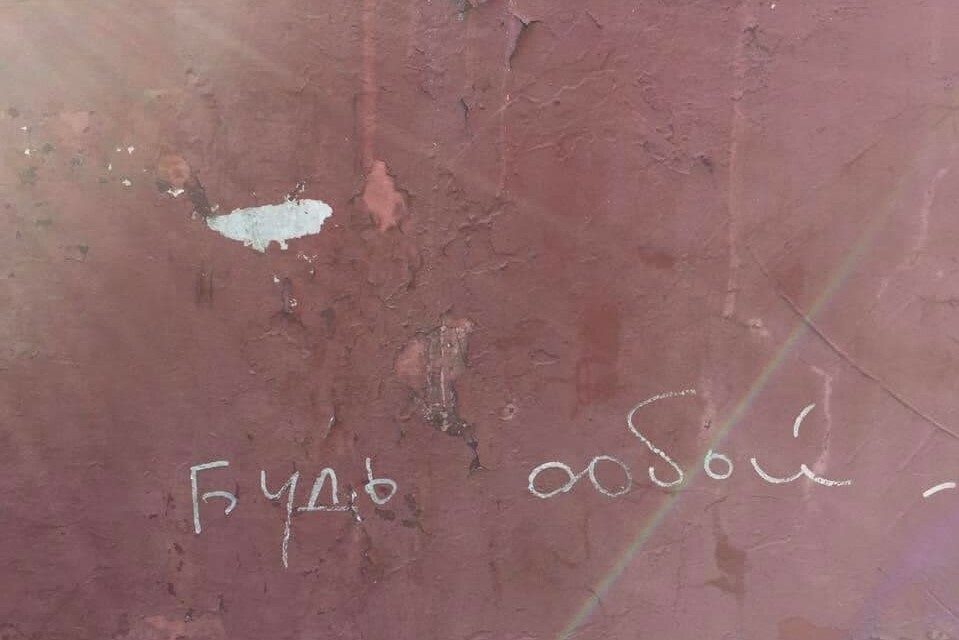Дмитрий Воденников
Я помню эти стихи в книге с отрочества, только не запомнил имени автора. Думал долгое время, что это Олжас Сулейменов. Какой Олжас? Это же Юрий Кузнецов.
Ну, конечно, и то, что это не похоже на привычные стихи (рифма, рифма, огуречик, вот и вышел человечек – в квадратах привычных четверостиший) тоже удивило, было живым. И финал – непонятный, тревожащий.
БАБОЧКА
Я стоял на посту,
на котором стреляют на шорох,
если желают живыми вернуться домой.
В воздухе стало странно мерцать и блестеть,
и я уловил в нём дыхание лишнего звука.
По долине катился
копошащийся шёпот, шуршание, шелест и плеск
туго сцепившихся бабочек.
Циклон насекомых накрыл меня с головой.
Я задохся, ослеп и упал,
но, вспоминаю, стрелял -
три раза, и всё наугад.
Как только рассеялось,
я обнаружил в долине
три длинные тени расстрелянных бабочек,
отброшенных от меня.
Две уходили вдаль,
а третья была покороче
и обрывалась о тёмный предмет.
Я подошёл по нити запёкшихся тварей,
я подошёл.
Это был человек,
в его теле порхала последняя бабочка.
Это стихотворение написано в 1967 году. В следующем году родился я. А стихотворение уже существовало, и, возможно, даже уже было напечатано.
Кузнецов бы очень трудным человеком. Так, например, за год до своей смерти, а умер он в 2003 году, Кузнецов опубликовал в «Нашем современнике» поэму, названную «Сошествие во Ад». Он там новый Данте, в сопровождение ему дан не какой-то там Вергилий, а сам Христос, вот они идут, следуют круг за кругом, а Кузнецов всем рассказывает, кто и как наказан.
А там есть, о чем рассказать: в аду маются Гоголь, Тютчев с Денисьевой (господи, их-то за что?), Белинский (вопросов нет), Герцен, Солженицын, Сахаров и декабристы.
Тучи летели, и души из них выпадали,
Пятеро душ задымились в падучей печали.
Се декабристы – на каждом обрывок петли.
Видно, гнилые верёвки их честь подвели.
И, оборвавшись, они провалились сквозь землю.
Я отвернулся. Я падшую честь не приемлю.
Даже в этой поэме, особенно сначала, когда Кузнецов не впадает в раж, есть сильная звуковая нота, энергия слова. Вот, например:
Полный печали и трепета, я произнёс:
– Боже! Ты плачешь! – Быть может! – ответил Христос. –
Только запомни: то утка подманная крячет,
То человечье во Мне, а не Божие плачет.
Полный печали и ужаса, я произнёс:
– Боже! Ты страждешь? – Быть может!– ответил Христос.
Ну здорово же?
Но потом, когда уже надо палить людей в вечном огне, Кузнецов начинает захлёбываться, текст теряет силу.
Я не заметил, как с неба спустился паук,
Но услыхал под ногой его лопнувший звук.
Я невзначай раздавил паука на том свете,
Но не того, кто соткал интернетские сети.
Ну что это, а? Ай-ай-ай, Юрий Поликарпович.
И вот ещё:
...Редкие штуки бывают при адской игре.
Бесы накрыли Эйнштейна на смертном одре:
– А, крошка Цахес! Попался на атомной бомбе!
Нас не обманешь секретом при сорванной пломбе... –
Долго таскали за лавры туда и сюда.
На спину падал Эйнштейн: – Я устал, господа! –
И на дрожащих поджилках играл, как на скрипке,
Но полагал, что попал он сюда по ошибке.
Бесы скучали: – Где Чаплин? – Я здесь! – он сказал
И знаменитые усики им показал.
– Вот твои нитки. Нам дёргать тебя надоело.
Дёргай себя самого... – И он взялся за дело.
Я отвернулся. Молитесь, святые места!
Ужас презрения мне замыкает уста.
...Это был человек, в его теле порхала последняя бабочка. Хотя как знать: может, и не последняя, а целый рой: черных, алых, синих и золотых. И хотя это всё было уже в конце (в конце жизни человек вообще имеет право съехать с катушек, ещё посмотрим, что мы с вами будем вытворять), но и в молодом и зрелом возрасте Юрий Кузнецов был строг и некоторых людей не жаловал.
Так, например, Маяковского он называл «люмпеном». Тютчева, которого всё-таки любил, упрекал в косноязычии: тот в «Silentium» нарушил размер, а это нехорошо (я даже не буду сейчас искать где). Есенин был обвинён в невозможности смотреть правде в лицо. Блок, по мнению Кузнецова, был слишком декоративен. Бродский вторичен. Ахматова – рукодельница. Цветаева – истеричка.
В общем, неприятный человек. Но в стихах своего первого периода Юрий Кузнецов – конечно, гений.
***
Шёл отец, шёл отец невредим
Через минное поле.
Превратился в клубящийся дым –
Ни могилы, ни боли.
Мама, мама, война не вернёт...
Не гляди на дорогу.
Столб крутящейся пыли идёт
Через поле к порогу.
Словно машет из пыли рука,
Светят очи живые.
Шевелятся открытки на дне сундука –
Фронтовые.
Всякий раз, когда мать его ждёт, –
Через поле и пашню
Столб клубящейся пыли бредёт,
Одинокий и страшный.
Или вот ещё (и опять отцовская тема):
ОТЦУ
Что на могиле мне твоей сказать?
Что не имел ты права умирать?
Оставил нас одних на целом свете,
Взгляни на мать – она сплошной рубец.
Такую рану видит даже ветер,
На эту боль нет старости, отец!
На вдовьем ложе, памятью скорбя,
Она детей просила у тебя.
Подобно вспышкам на далеких тучах,
Дарила миру призраков летучих:
Сестер и братьев, выросших в мозгу...
Кому об этом рассказать смогу?
Мне у могилы не просить участья.
Чего мне ждать?..
Летит за годом год.
– Отец! – кричу. – Ты не принес нам счастья!..
Мать в ужасе мне закрывает рот.
...Когда читаешь поэтов, вдруг понимаешь что-то про себя. Что у тебя есть всего лишь три-четыре краски, и ты всю жизнь ими мажешь, мажешь, а они не выцветают. Никакого разноцветья. Никакой сложности. Три-четыре краски. И это всё, что у тебя есть, и это всё, за что тебя можно любить и за что любили. Как тут не быть благодарным: себе, другим и этим четырём краскам. Что ты их – единственные – выбрал из всего многообразия.
И не ошибся.