Дмитрий Воденников
А осеннее лето всё не уходит и не уходит. Зелёное с голубым. Даже жёлтых листьев совсем нет. Лето – среднего рода, оно пришло, постояло, ушло. А осень – женщина. Стоит совсем как пьяная.
Кстати, о пьяных.
Помню в «Записках об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской:
«Анна Андреевна сказала, что может пить много и никогда не пьянеет».
[через 20 строк]
«Говорила она возбуждённее и громче обычного; исчезли глубокие, долгие паузы, столь свойственные её речи; видимо, водка всё-таки и на неё действует».
Люблю такие вещи.
* * *
Когда холод приходит порой холодов – это мне
по душе,
Ибо мне, этой малой частице всего, что вокруг,
Всё приятно в природе уже потому, что оно
от природы.
Я всё трудное в жизни приемлю, как долю свою,
Как приемлю и холод чрезмерный в разгаре зимы –
Так приемлю спокойно, без жалоб, как всякий, кто
просто приемлет
И находит великую радость в самом этом факте
приятья,
В этом трудном и мудром приятье велений природы.
Что такое болезни мои и невзгоды,
Как не та же зима моего существа
и всей жизни моей?
Та зима, что приходит внезапно, и мне неизвестны
законы её появленья,
Но, в которой я вижу высокую ту неизбежность,
Как во всем неизбежном, что есть вне меня
и помимо меня,
Как тепло, что восходит от летней земли,
Или холод от зимней земли.
Я приемлю, поскольку я есть человек.
Я, как все, обречён от рожденья иметь недостатки
и делать ошибки,
Но не эту ошибку – желанье понять слишком много,
И не эту ошибку – желанье понять одним разумом
только,
И не тот недостаток – желать, чтобы в жизни
Было нечто такое, что не было б жизнью.
(Фернандо Пессоа, перевод Юрия Левитанского)
Пессоа – это крупнейший португальских поэт, который, когда уже закончилась его юность, почти никогда не покидал Лиссабон. Одиночество и самоанализ – вот его маршруты, другие не интересны.
По значению для португальской поэзии его часто сравнивают с Камоэнсом (Камоэнса мы помним больше по «Покровским воротам»: да-да, это он потерял глаз).
На могиле Пессоа выбито:
«Если кто-нибудь после смерти моей пожелает
Написать мою биографию – это будет весьма несложно.
Имеются две основные даты – рожденья моего и смерти.
Между этими датами – все дела мои и все дни мои остальные»
Не знаю, как там обстояло дело с этим у Камоэнса и Пессоа (ударение на «о»), но у меня иногда внутри всё замирает от счастья, хотя у меня на это нет никаких оснований.
Это очень короткий приступ.
Секунды на три.
Но он – есть.
Вот, кажется, тогда я и живу.
* * *
это наяву
мы сны забываем
а во сне мы помним
их все
чудесно!
все сны
спасены
(Иван Ахметьев)
У Юрия Смирнова (я дам только короткий финальный фрагмент: стихотворение очень длинное, оно разорвёт текст – все и забудут, о чём речь шла) есть про это:
...Я хочу умереть с тобой рядом,
С аккуратно остриженными ногтями.
Под зелёными рукавами
Счастья.
Голым.
(Юрий Смирнов, стихотворение «Зелёные рукава»)
А ещё говорят, что современные поэты не пишут о счастье. Так они всё время только об этом пишут (приближение стихотворения это уже есть счастье). Это Камоэнс всё писал только о смерти и горе, о лишении, о злой судьбе (с другой стороны, мы помним: он же глаз потерял):
Когда мое страданье – искупленье
За все ошибки, сделанные мною,
Как видно, мне назначена судьбою
Двойная мука за моё терпенье.
Нет. Классическую португальскую поэзию совершенно невозможно читать. Особенно в переводах. Почитаем лучше современных. Там есть дыхание, там есть карта нашего детства.
* * *
Когда мы были детьми
И нас мучили страхи о жизни под кроватью…
По крайней мере, меня они мучили лет до пяти.
Или, когда стал чуть старше,
мне казалось,
что могут меня увести
чьи-то объятия
(опять же) под кроватью,
утащить во тьму.
– Самому не стыдно? – спрашивала бабка, накрывшегося меня с головой одеялом.
Да, стыдно… но не стыдно, а обидно, что мои страхи,
которые впоследствии стали более проворными
и начали танцевать вокруг прекрасной девушки,
уже никогда не научатся любить,
потому что учиться всегда весело.
Вы меня услышали?
Любить научились.
А учиться уже никогда.
И всё-таки…
когда мы были детьми,
этот страх, это предчувствие
продолжение яви
(как говорят астрофизики «за горизонтом событий»),
то пространство,
которое впоследствии назовём любовью…
Чьи глаза мне светили во тьме?
Два красных уголька…
Могло быть чьё-то разбитое сердце.
Конечно, это было чьё-то разбитое сердце!
И когда плутаешь в тёмном лесу,
это свечение от потухшего костра
действительно может испугать.
Но я не об этом. Когда мы были детьми,
никому не могло прийти ни в голову, ни в пропеллер,
что из-за наших детских страхов
мы окажемся такими несчастными взрослыми.
И придётся переплачивать денег, чтобы услышать далёкий (из детства) бабкин голос: «Самому не стыдно?»
И отвечать, как во сне (а, собственно, почему «как»?):
милая бабушка мне совершенно не стыдно бояться мира, который пока я не знаю.
Только и бабка давно умерла.
И кто сегодня живёт под моей кроватью, как ни смерть?
(Сергей Каревский)
Недавно моя приятельница, писательница Ульяна Меньшикова рассказала удивительную историю, как водитель автобуса «Новосибирск – Барнаул» предложил пассажиру, сидевшему на первом сидении и постоянно говорившему по телефону, наконец замолчать. Или пересесть на заднее сидение или выйти из автобуса.
«...Говорливый пассажир оказался не лыком шит и посоветовал водителю самому выметаться из автобуса.
И что вы думаете? Водитель остановил автобус, собрал котомку, оставил ключи зажигания в салоне и, помахивая сумочкой, ушёл в закат, оставив пассажиров (которые в конфликте не участвовали, сидели и помалкивали, как воспитанные люди) в совершеннейшем недоумении.
Люди ждали-пождали возвращения блудного капитана ночных дорог, но тщетно. Пришлось проявить находчивость и смекалку, вспомнить молодость и добираться автостопом до вожделенного Барнаула. Их подобрал на вечерней трассе автобус, следующий до Усть-Каменогорска.
Выяснилось, что покинувший боевой пост водитель тут же и уволился из автопарка.
Уж психанул, так психанул парнишка».
Мы стали разговаривать у нее в комментариях (что это потрясающая история, что она какая-то как из Лескова или из Достоевского, только с разных концов: у Лескова было бы просветление, у Достоевского – очередная бездна) и Ульяна Меньшикова дорисовала её.
«А можно развить дальнейший путь этого водителя. Как его разыскивает милиция-полиция, молодая жена и ещё не старая мать. Как не теряют надежды и ждут, когда все уже устали ждать. И – опа! Через десять лет в Новосибирск прилетает с проповедями новый Далай-лама. Билборды по всему городу. И рано поседевшая и уже не такая молодая жена узнает в нём своего (допустим) Алёшу... Или через всё те же десять лет разносится слух о великом праведнике, который уединённо живет в дальней, за Искитимом, лесополосе и исцеляет всех к нему пришедших. И никогда ни с кем не разговаривает. Обет молчания дал. И жена его приезжает в эту лесополосу, узнать о судьбе своего Алёши и в седом лохматом, в колтунах старце узнаёт любимого... Эх!»
* * *
Жизнь – не хотелки, а служение –
сквозь пальцы уходящий свет.
А мы – всего лишь отражения,
и нас здесь не было и нет.
Но, где-то там, где мы замыслены,
где дремлем истинные мы –
плывут сверкающие истины
и обнажают рыхлость тьмы.
Там – в самом центре мироздания –
гуляет месяц молодой –
и те, кто вопреки желаниям
стал родниковою водой.
(Алексей Шмелёв, это не целиком стихотворение, без первой строфы, но оно как раз об этом)
У кого счастье, у кого автобус и просветление, у кого-то цветы.
Моё любимое:
«– 23-го у меня был особенный день. Курьер из издательства привез мне экземпляры, друзья приходили, приносили цветы. Я лежала, мне было нехорошо: сердце. Вошла ко мне в комнату Таня, поглядела на меня, поглядела на цветы, фыркнула:
– Беспокойная старость! – и вышла».
(Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой.)
Хорошо, если нам дадут беспокойную старость: в славе ли, в неожиданном ли просветлении (но сперва нам надо будет бросить автобус) – главное, чтоб не скучную как матрас.
Доживём эту жизнь в счастье и беспокойстве.
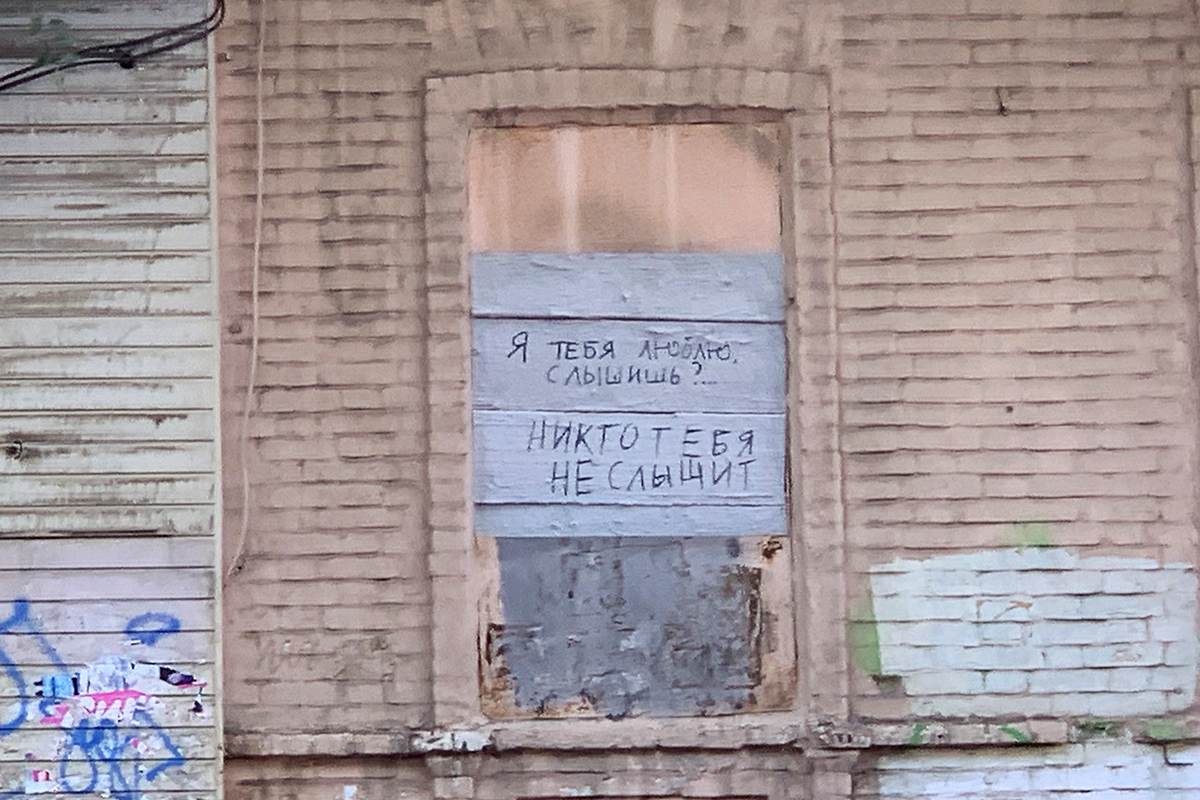
2021-09-18 10:00
Поэзия
