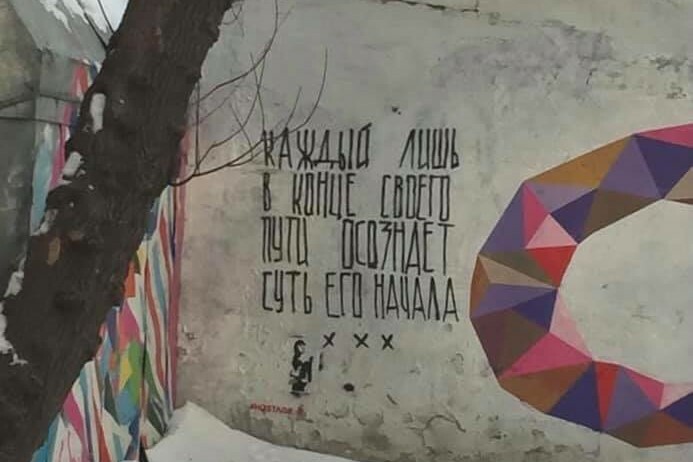Дмитрий Воденников
«Я так давно родился, что вижу иногда, как надо мной проходит зелёная вода», – написал Тарковский.
Я так давно родился, что запомнил эти строчки Тарковского неправильно: вода там не зеленая, а студёная. И никто не исправит, хотя могли бы.
Поговорил тут по телефону о шезлонгах (они мне не нужны, где я и где шезлонги? – просто так поговорил), в интернете теперь постоянно начинаю видеть рекламу дачной мебели.
Посмотрел статью про фаюмские портреты (для общего развития) – теперь в фейсбуке мне предлагают похоронные принадлежности.
Ну так почему не пойти дальше? Написал строчку с чуть перевранным текстом, открыл почту, а там баннер: «студёная вода, студёная, не зелёная».
Я бы и с этим неожиданным поучением смирился, но вот с чем я никогда не смирюсь, так это со сбивом ритма в этом стихотворении.
Смотрите сами:
Я так давно родился,
Что слышу иногда,
Как надо мной проходит
Студёная вода.
А я лежу на дне речном,
И если песню петь –
С травы начнём, песку зачерпнём
И губ не разомкнём.
Почему вдруг в предпоследней строке ритм затыкается? «С травы начнём», тут мы уже немного споткнулись, а потом вообще начинаем панически крутить в голове и на языке «песку зачерпнём»: «пЕску зачерпнём», «пескУ зачерпнём»?
Инерция стихотворной речи нас заставляет ждать совсем другую музыкальную схему, но Тарковский безжалостен: он оставляет ещё и «петь» без рифмы, а рифмует «зачерпнём» и «разомкнём». Дальше не легче.
Я так давно родился,
Что говорить не могу...
(Слышите? Слышите? Тут вторая строчка опять выпирает, она ломает напевность, перечеркивает рисунок.)
И город мне приснился
На каменном берегу.
(И «каменный» тут слишком долгое слово. И только потом всё опять возвращается на привычные нашему уху рельсы.)
А я лежу на дне речном
И вижу из воды
Далёкий свет, высокий дом,
Зелёный луч звезды.
Ну, слава богу, радуемся мы. Это было досадное искажение линии партии, головокружение от успехов, сумбур вместо музыки. Но напрасно и рано мы радуемся.
Я так давно родился,
Что если ты придёшь
И руку положишь мне на глаза,
То это будет ложь,
А я тебя удержать не могу,
И если ты уйдёшь
И я за тобой не пойду, как слепой,
То это будет ложь.
Конец света. Прямо заказывай фаюмский портрет и ложись в могилу. Почему Тарковский написал такое странное стихотворение? Зачем? Даже голова от него разболелась. Тем более, что в следующем стихотворении с ритмическим рисунком всё как у людей, даже любезно ударения поставлены.
* * *
Больной просыпа́лся. Но раньше, чем он,
вставала огромная боль головная,
как бурю внутри протрубивший тритон.
И буря, со всех отзываясь сторон,
стояла и пела, глаза закрывая.
И где он едва успевал разглядеть
какую-то малость, частицу приметы –
глядела она. Поднимала, как плеть,
свой взгляд, никогда не любивший глядеть,
но видевший так, что кончались предметы.
И если ему удавалось помочь
предметам, захваченным той же болезнью,
он сам для себя представлялся точь-в-точь
героем, спасающим царскую дочь,
созвездием, спасшим другое созвездье.
Как будто прошёл он семьсот ступене́й,
на каждой по пленнице освобождая,
и вот подошёл к колыбели своей
и сам себя выбрал, как вещь из вещей,
и тут же упал, эту вещь выпуская.
(Ольга Седакова)
Седаковой в одном интервью сказано: «... ведь младенец, infans по-латыни – это “не говорящий”. Насколько я знаю, почти неописанная в литературе эпоха жизни. Только Лев Толстой помнил себя младенцем, которого купают. Но о первых встречах со словом он ничего не рассказывает. Раннее детство меня и интересует больше всего. Это другой мир, в который ещё не вошла социализация и не разложила всё по своим полочкам. (...) Первое, что с нами происходит ещё до всякой травмы, – это захваченность реальностью, богатой, значительной, чудесной. Любая попадающаяся на глаза вещица видится сокровищем. Я до сих пор люблю эти сокровища. Но говорить о них уместнее в стихах или прозе прустовского типа, а не в «рассказе о себе». Странно, как многие люди остались без этого воспоминания о рае. Я уверена, что это опыт каждого ребенка. Что вытесняет его?»
Я читаю это и думаю, что странное, срывающееся какое-то стихотворение Тарковского – это как раз стихотворение ещё «не говорящего» младенца, с чудесной перевернутой картинкой. Любая попадающаяся на глаза вещица видится сокровищем. И тут не до мерно текущего ритма. Вещица-сокровище прорывает ткань стихотворения, разрывает её. Для этой вещицы надо придумать новый язык.
«Если и язык, то такой, которому никто не учит. В нем нет регулярных правил».
Ребёнок вырастает, перестает быть младенцем, его учат правилам: например, играть в шашки. Но он-то знает, что это просто ширма: за этими, так часто расстраивающими правилами (обязательно кто-нибудь съест твою шашку, рвущуюся в дамки) всегда есть высшие правила, что пообещают тебе неминуемую победу, прорыв, небесную дамку. А потом собьют тебе сердечный ритм.
***
И в предчувствии мы проживаем
то, чего жить не придётся. Великую славу.
Брачную ночь. Премудрую, бодрую старость.
Внуков – детей того сына, которого нет.
Нет, не пустая мечта человеческим сердцем играет.
Знает ребёнок, зачем он так странно утешен.
Чем он играет.
Мы не видим лица. Мы глядим на него, как из двери
мать поглядела – и тут же спокойно уходит:
он играет. Белый луч на полу.
– Он ещё поиграет,
я успею доделать, что нужно.
Время не ждёт, он играет.
Перед самым несчастьем предчувствие нас покидает:
это уже не снаружи, это мы сами. Прекрасно
в этой неслышимой музыке, в комнате белой.
Так он в сердце играет,
ребёнок, играющий в шашки.
(Это опять Ольга Седакова.)
... Недавно был удивлен неожиданной параллелью. Интересно, удивилась бы Цветаева, узнав, что почти дословно повторила в своем сне эпизод с Маргаритой Николаевной из булгаковского романа?
«Лечу над переулками Москвы. Задираю прохожих. Какая-то дама в коричневом говорит мне: – “Покойница!” – “Вы больше покойница, чем я!” Залетаю в дом Фельдештейнов и с чувством весёлой мести делаю какие-то гадости, – что-то со скатертью накрытого стола».
* * *
Один и тот же образ
детского счастья:
драма пряток и преследованья
в подвалах,
в старой крепости,
на графских развалинах.
О, несчастные дети Лондона!
О, мой бедный сын!
Ни разрушенных замков,
ни цибули
в чужом огороде,
ни зари,
ни туманной,
ни юности
(Игорь Померанцев)
Нам снятся подозрительно похожие сны. Может, потому что текст всегда немного похож на сон? Ну или в крайнем случае – там всегда можно взлететь?
***
Стихотворение подобно самолёту.
Самолёт становится всё совершеннее,
Проходя эволюцию от кукурузника до сверхзвукового истребителя.
Но самое интересное впереди.
Нужно убрать крылья и взлететь.
Убрать двигатели и взлететь.
Снять обшивку и взлететь.
Когда останется одно только кресло пилота,
Пристегнуться и взлететь.
(Виталий Пуханов)
И вот Маргарита Николаевна становится стихотворением и взлетает.