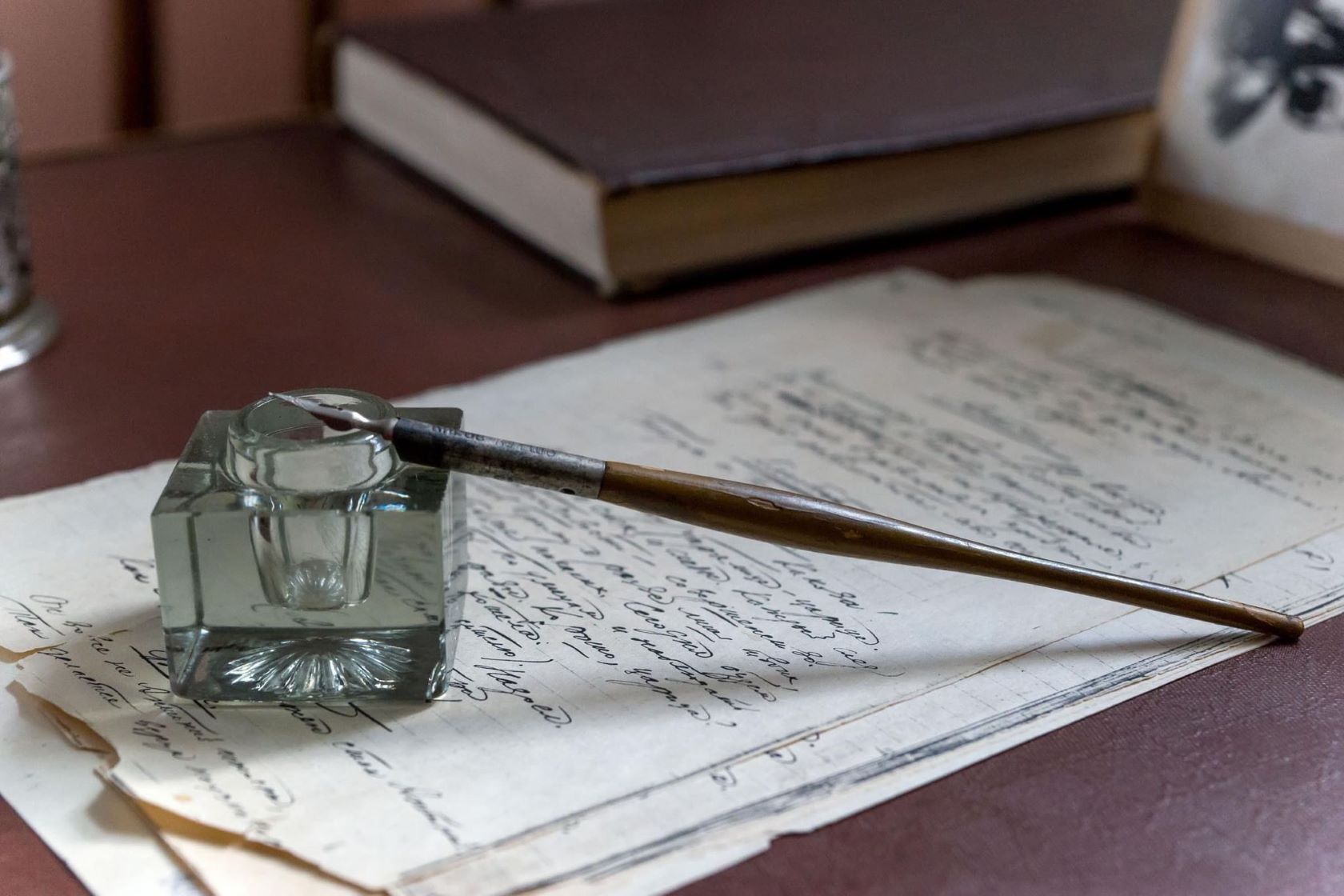Недавно натолкнулся на воспоминание о Чуковском. Дивная история, чем-то напоминающая недавний скандал в нашем кинематографе. С Тарковским связанный.
В общем, в писательском дачном поселке Переделкино были съёмки документального фильма о Чуковском.
И вот уже всё кончилось (а съемки – это всегда дело муторное: свет установить, звук, пишут еще на пленку, куда больше, чем возьмут, но вот уже всё позади), и съемочная группа уже собирается уезжать, собирает свои баулы, пакуют камеры, и как вдруг режиссёр видит: мимо дачи Корнея Ивановича идет очаровательная девочка. И большой белоснежный бант на ней, и красный пламенеющий пионерский галстук. И даже красивые новые сандалики – всё, всё, как с картинки, точнее, для нее: для телевизионной картинки.
Просят войти девочку в кадр, опять ставят свет, включили камеру. Спрашивают: «Можешь рассказать, чем тебя нравятся произведения дедушки Корнея?». Девочка с важным видом кивает, соглашается.
Дальше цитата:
«– Ты ведь знаешь Корнея Ивановича Чуковского? – спросил режиссер.
– Конечно знаю, – важно ответила девочка.
– И кто же он, расскажи?
– Очень слабый писатель».
После чего девочка разворачивается и идет по своим делам. Все в немом ужасе смотрят на Чуковского. А тот смеется, заливается.
– Не переживайте, – говорит Корней Иванович, продолжая смеяться. – Это внучка писателя Катаева.
Воспоминание
Садовник поливает сад.
Напор струи свистят, треща,
И брызги радугой летят
С ветвей на камушки хряща.
Сквозь семицветный влажный дым
Непостижимо и светло
Синеет море, и над ним
Белеет паруса крыло.
И золотист вечерний свет,
И влажен жгут тяжелых кос
Той, чьих сандалий детский след
Так свеж на клумбе мокрых роз.
(Валентин Катаев, 1920 год)
Есть у Катаева такой то ли рассказ, то ли просто очерк. Как приехала Лидия Русланова однажды с фронта (шла Великая Отечественная война, артисты помогали тем, чем могут: песнями своими, шутками). Через несколько дней ей опять туда выезжать. Они сидят с Катаевым в номере Руслановой в гостинице «Москва». За окном громады зданий и асфальтовые шумные перекрестки центральной Москвы. Едут в камуфляже машины, рассыпают свои искры трамваи и троллейбусы. Бегут по переходам пешеходы. И день такой серый, не солнечный, деловой.
Руслана переполнена воспоминаниями о фронте.
Она одета в простое коричневое платье. Волосы гладко убраны. Это идет ее простому крестьянскому лицу.
Она давно уже ездит выступать перед бойцами. Вместе с ней – фокусник, баянист, скрипач и конферансье.
В прифронтовом лесу
С берез, неслышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы –
Товарищи мои.
Под этот вальс весенним днем
Ходили мы на круг,
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг;
Под этот вальс ловили мы
Очей любимых свет,
Под этот вальс грустили мы,
Когда подруги нет.
И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом,
И каждый слушал и молчал
О чем-то дорогом;
И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну,
И каждый знал – дорога к ней
Ведет через войну…
Так что ж, друзья, коль наш черед, –
Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце не замрет,
Не задрожит рука;
Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светят в трудный час,
А коль придется в землю лечь,
Так это ж только раз.
Но пусть и смерть – в огне, в дыму –
Бойца не устрашит,
И что положено кому –
Пусть каждый совершит.
Настал черед, пришла пора, –
Идем, друзья, идем!
За все, чем жили мы вчера,
За все что завтра ждем!
(Михаил Исаковский, 1942 год)
Русланова со своей бригадой много уже где побывала: и на юге, и на юго-западе, и на севере. Концертов дано несметное количество.
И вот в номере гостиницы «Москва» (это теперь всё отели, раньше же их называли гостиницами) идет разговор.
Катаев спрашивает: «Ну, как вам съездилось, Лидия Андреевна?»
«Замечательно!» – отвечает та.
И много рассказывает о своей последней поездке. Больше всего ей запомнился концерт в трехстах метрах от линии огня. Успели они его дать тридцать минут до атаки.
Триста метров, тридцать минут. Такие фольклорные числа.
Редко, друзья, нам встречаться приходится,
Но уж когда довелось,
Вспомним, что было, и выпьем, как водится,
Как на Руси повелось!
Пусть вместе с нами семья ленинградская
Рядом сидит у стола.
Вспомним, как русская сила солдатская
Немца за Тихвин гнала!
Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, бился на Волхове,
Не отступил ни на шаг.
Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробивался болотами,
Горло ломая врагу.
Будут навеки в преданьях прославлены
Под пулеметной пургой
Наши штыки на высотах Синявина,
Наши полки подо Мгой.
Встанем и чокнемся кружками, стоя, мы –
Братство друзей боевых,
Выпьем за мужество павших героями,
Выпьем за встречу живых!
(Павел Шубин)
Есть несколько версий этой песни. Этот вариант, как пишут, принадлежал Павлу Шубину. Павел Шубин был корреспондентом газеты «Фронтовая правда» в 377-й стрелковой дивизии Волховского фронта, а в начале 1943 года участвовал в боях у Синявина во время попыток снять блокаду Ленинграда.
Но вернемся к разговору Катаева и Руслановой.
Итак, она рассказывает: они в лесу, в лесу сыро. Они видят маленький, разбитый снарядами и полусожженный домик лесника. Слышна невдалеке артиллерийская подготовка. Иногда даже осколки срезают ветки деревьев.
Русланова стоит на земле, а рядом, на пеньке сидит аккомпаниатор с гармоникой.
Русланова в мордовском ярком сарафане, на ногах – лапти. На голове она повязала цветной платок: на платке по алому полю бегут зеленые розы. Еще что-то желтое (сейчас Русланова точно не помнит.) А вот бусы помнит.
Русланова поет. Примерно сто бойцов слушает ее. Они все в маскировочной форме. Лица их зачернены. «Как у марокканцев», – пишет Катаев. На шее бойцов висят автоматы. Мужчины только вышли из боя, скоро им опять туда.
Это, конечно, поражает тебя, читателя, больше всего: это именно концерт перед боем.
Окрасился месяц багрянцем,
Где волны бушуют у скал.
«Поедем, красотка, кататься,
Давно я тебя поджидал».
«Я еду с тобою охотно,
Я волны морские люблю.
Дай парусу полную волю,
Сама же я сяду к рулю».
«Ты правишь в открытое море,
Где с бурей не справиться нам.
В такую шальную погоду
Нельзя доверяться волнам».
«Нельзя? Почему ж, дорогой мой?
А в прошлой, минувшей судьбе,
Ты помнишь, изменщик коварный,
Как я доверялась тебе?»
«Послушай, мы жизнью рискуем,
Безумная, руль поверни!
На это сердитое море,
На эти ты волны взгляни».
А волны бросаются с ревом
На их беззащитный челнок.
«Прочь весла! От гибели верной
Спасти чтоб никто нас не мог!
Меня обманул ты однажды,
Сегодня тебя провела.
Смотри же: вот ножик булатный,
Недаром с собою взяла!»
И это сказавши, вонзила
В грудь ножик булатный ему.
Сама с обессиленным сердцем
Нырнула в морскую волну.
Всю ночь волновалося море,
Ревела морская волна;
А утром приплыли два трупа
И щепки того челнока.
...Опять же не уверен, что именно этот изначальный, канонический текст песни пела тогда Русланова. Скорей всего, там была укороченная версия. По крайней мере, я в детстве своем, по радио, слышал более приглаженный вариант: никаких там трупов, никаких щепок.
Но голос Руслановой летит, пламенеют яркие краски ее костюма.
Звуки ее песни мешаются со звуком вражеских мин. (И ты опять поражаешься этому, но так записано и так рассказано, значит, так и было.)
И вот певица заканчивает.
К ней подходит молодой боец, говорит: «Видишь, какие мы чумазые после боя. Но песней своей ты нас умыла, как мать умывает своих детей. Спасибо. Сердце оттаяло. Спой еще».
И она поет еще.
Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой.
И колокольчик, дар Валдая,
Звенит уныло под дугой…
Но всё, концерту пора заканчиваться: подана команда, бойцы уходят в лес.
И вот уже треск автоматов, отдаленное «ура». Кто выживет из них?
Этот текст Катаева про Русланову написан в 42-ом.
Ах ты, степь широкая, степь
раздольная,
Ой да Волга-матушка, Волга
вольная…
А вот уже совсем другая тема – из другого времени, тоже трудного. И это уже Чуковский.
Однажды Чуковский записал в дневнике:
«Третьего дня на лестнице Госиздата встретил "Прекрасную Даму" Любовь Дмитриевну Блок. Служит в Госиздате корректоршей, большая, рыхлая, 45-летняя женщина. Вышла на площадку покурить. Глаза узкие. На лоб начесана челка. Калякает с другими корректоршами.
– Любовь Дмитриевна, давно ли вы тут?
– Очень давно.
Того чувства, что она "воспетая", "бессмертная" женщина, у нее не заметно нисколько, да и все окружающее не способствует развитию подобных бессмысленных чувств».
Ее муж когда-то написал свое знаменитое:
В ночь, когда Мамай залег с ордою
Степи и мосты,
В темном поле были мы с Тобою, –
Разве знала Ты?
Перед Доном темным и зловещим,
Средь ночных полей,
Слышал я Твой голос сердцем вещим
В криках лебедей.
С полуно’чи тучей возносилась
Княжеская рать,
И вдали, вдали о стремя билась,
Голосила мать.
И, чертя круги, ночные птицы
Реяли вдали.
А над Русью тихие зарницы
Князя стерегли.
Орлий клёкот над татарским станом
Угрожал бедой,
А Непрядва убралась туманом,
Что княжна фатой.
И с туманом над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла, в одежде свет струящей,
Не спугнув коня.
Серебром волны блеснула другу
На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу
На моем плече.
И когда, наутро, тучей черной
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.
(Александр Блок, «На поле Куликовом»)
Ее, Менделееву, принято ругать. Ахматова вообще не стеснялась: называла «круглой дурой». Но все-таки лучшую, чем изначальная, строчку из Двенадцати придумала именно Менделеева. «Шоколад Миньон жрала». У Блока было хуже: «юбкой улицу мела». А юбки теперь носят короткие, покаянно заметил Блок.
... Вот же, как он вяжется, текст. От девочки в сандаликах на даче Чуковского, через Русланову, Блока – опять к Чуковскому. Но и Блока не забудем.
Об этом эпизоде именно Чуковский вспомнил однажды и записал.
Кто-то другой ему рассказал, но теперь нам кажется, что это с Чуковским и было.
...Идет, идет по неуютному, раннесоветскому Петрограду молодой человек на лекцию. Точнее: на лекцию по истории западных литератур. А читает эти лекции у них сам Блок.
Может, молодой человек и прогулял бы (сейчас вы поймете, откуда эта тема пропуска занятий возникла), но никак нельзя: он староста.
А в Доме искусств тогда стоял самый настоящий мороз. Там даже чернила в чернильнице надо размораживать. Что староста и делает: расстегивается, ставит ледяную чернильницу себе на живот. В конце лекции он вернет чернильницу на стол, а Александр Блок распишется в журнале.
Пушкинскому дому
Имя Пушкинского Дома
В Академии наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!
Это – звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке,
Это – древний Сфинкс, глядящий
Вслед медлительной волне,
Всадник бронзовый, летящий
На недвижном скакуне.
Наши страстные печали
Над таинственной Невой,
Как мы черный день встречали
Белой ночью огневой.
(Александр Блок)
Но пока Блок читает свою лекцию (нет-нет, он ее не в Пушкинском доме читает, просто очень уж важно было дать это последнее стихотворение Блока, в котором так четко прописано его уважение к культуре), он никуда не смотрит: ни в журнал, ни на стол, ни в аудиторию. Блок смотрит в окно. И туда – небу, ветках – всё это и рассказывает.
И вот однажды на блоковскую лекцию не приходит никто. Кроме замёрзшего, как чернильница, юноши, подневольного старосты.
Заходит Блок, окидывает взглядом пустую аудиторию, спрашивает: а где же слушатели? «Видимо, не собрались», – отвечает юноша-чернильница. И тут Александр Блок начинает читать свою лекцию для единственного слушателя.
Дон Кихот, Сервантес, легенда о Дон Жуане.
Шаги командора
Тяжкий, плотный занавес у входа,
За ночным окном – туман.
Что теперь твоя постылая свобода,
Страх познавший Дон-Жуан?
Холодно и пусто в пышной спальне,
Слуги спят, и ночь глуха.
Из страны блаженной, незнакомой, дальней
Слышно пенье петуха.
Что изменнику блаженства звуки?
Миги жизни сочтены.
Донна Анна спит, скрестив на сердце руки,
Донна Анна видит сны…
Чьи черты жестокие застыли,
В зеркалах отражены?
Анна, Анна, сладко ль спать в могиле?
Сладко ль видеть неземные сны?
Жизнь пуста, безумна и бездонна!
Выходи на битву, старый рок!
И в ответ — победно и влюбленно -
В снежной мгле поет рожок…
Пролетает, брызнув в ночь огнями,
Черный, тихий, как сова, мотор,
Тихими, тяжелыми шагами
В дом вступает Командор…
Настежь дверь. Из непомерной стужи,
Словно хриплый бой ночных часов -
Бой часов: "Ты звал меня на ужин.
Я пришел. А ты готов?.."
На вопрос жестокий нет ответа,
Нет ответа – тишина.
В пышной спальне страшно в час рассвета,
Слуги спят, и ночь бледна.
В час рассвета холодно и странно,
В час рассвета – ночь мутна.
Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! – Тишина.
Только в грозном утреннем тумане
Бьют часы в последний раз:
Донна Анна в смертный час твой встанет.
Анна встанет в смертный час.
(Алесандр Блок)
Ледяная чернильница постепенно согревается и оттаивает на худом животе. Блок читает уже два часа. Чернила уже жидкие, скоро ими можно будет сделать запись в журнал. Но Блок только через два часа прерывается и говорит бедному старосте: «Давайте я десять минут отдохну – и потом прочту вам ещё два часа?»
Даже не хочется думать, что говорит про себя обреченный на знания студент. (Студент, студень – опять эти неожиданные смысловые рифмы: мы же помним, как там в аудитории холодно.)
И вот опять течет глуховатая лекция. (У Блока был глуховатый, невыразительный голос. Я представляю, как он должен был усыплять.)
Но вроде всё кончилось. Студент (а это был Андроников, Ираклий Андроников, наконец я вспомнил, кто рассказывал Чуковскому эту историю), вынимает из-под свитера и пальто теплую чернильницу, ставит её на озябший стол. Блок берет журнал, открывает его, опускает туда перо, задумывается и пишет: «История западных литератур – 1 час. Ал. Блок...»
Потом прощается, надевает свою котиковую шапочку и покидает зал.
Читать четыре часа, для всего одного слушателя, записать один час.
Все-таки Блок невероятный.
***
Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла,
И, словно облаком суровым,
Грядущий день заволокла.
За тишиною непробудной,
За разливающейся мглой
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молньи боевой.
Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!
Над вражьим станом, как бывало,
И плеск и трубы лебедей.
Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. – Молись!
Блок записал однажды в дневнике: «Всякая культура – научная ли, художественная ли – демонична. И именно чем научнее, чем художественнее, тем демоничнее. Уж, конечно, не глупое профессорье – носитель той науки, которая теперь мобилизуется на борьбу с хаосом. Та, наука – потоньше ихней».
Тут лучше всего это просторечное «ихней».
Как же он чувствовал слово.
Только «ихней», никак не «их» – тут только это просторечное должно стоять. Только оно.
В общем, в писательском дачном поселке Переделкино были съёмки документального фильма о Чуковском.
И вот уже всё кончилось (а съемки – это всегда дело муторное: свет установить, звук, пишут еще на пленку, куда больше, чем возьмут, но вот уже всё позади), и съемочная группа уже собирается уезжать, собирает свои баулы, пакуют камеры, и как вдруг режиссёр видит: мимо дачи Корнея Ивановича идет очаровательная девочка. И большой белоснежный бант на ней, и красный пламенеющий пионерский галстук. И даже красивые новые сандалики – всё, всё, как с картинки, точнее, для нее: для телевизионной картинки.
Просят войти девочку в кадр, опять ставят свет, включили камеру. Спрашивают: «Можешь рассказать, чем тебя нравятся произведения дедушки Корнея?». Девочка с важным видом кивает, соглашается.
Дальше цитата:
«– Ты ведь знаешь Корнея Ивановича Чуковского? – спросил режиссер.
– Конечно знаю, – важно ответила девочка.
– И кто же он, расскажи?
– Очень слабый писатель».
После чего девочка разворачивается и идет по своим делам. Все в немом ужасе смотрят на Чуковского. А тот смеется, заливается.
– Не переживайте, – говорит Корней Иванович, продолжая смеяться. – Это внучка писателя Катаева.
Воспоминание
Садовник поливает сад.
Напор струи свистят, треща,
И брызги радугой летят
С ветвей на камушки хряща.
Сквозь семицветный влажный дым
Непостижимо и светло
Синеет море, и над ним
Белеет паруса крыло.
И золотист вечерний свет,
И влажен жгут тяжелых кос
Той, чьих сандалий детский след
Так свеж на клумбе мокрых роз.
(Валентин Катаев, 1920 год)
Есть у Катаева такой то ли рассказ, то ли просто очерк. Как приехала Лидия Русланова однажды с фронта (шла Великая Отечественная война, артисты помогали тем, чем могут: песнями своими, шутками). Через несколько дней ей опять туда выезжать. Они сидят с Катаевым в номере Руслановой в гостинице «Москва». За окном громады зданий и асфальтовые шумные перекрестки центральной Москвы. Едут в камуфляже машины, рассыпают свои искры трамваи и троллейбусы. Бегут по переходам пешеходы. И день такой серый, не солнечный, деловой.
Руслана переполнена воспоминаниями о фронте.
Она одета в простое коричневое платье. Волосы гладко убраны. Это идет ее простому крестьянскому лицу.
Она давно уже ездит выступать перед бойцами. Вместе с ней – фокусник, баянист, скрипач и конферансье.
В прифронтовом лесу
С берез, неслышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы –
Товарищи мои.
Под этот вальс весенним днем
Ходили мы на круг,
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг;
Под этот вальс ловили мы
Очей любимых свет,
Под этот вальс грустили мы,
Когда подруги нет.
И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом,
И каждый слушал и молчал
О чем-то дорогом;
И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну,
И каждый знал – дорога к ней
Ведет через войну…
Так что ж, друзья, коль наш черед, –
Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце не замрет,
Не задрожит рука;
Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светят в трудный час,
А коль придется в землю лечь,
Так это ж только раз.
Но пусть и смерть – в огне, в дыму –
Бойца не устрашит,
И что положено кому –
Пусть каждый совершит.
Настал черед, пришла пора, –
Идем, друзья, идем!
За все, чем жили мы вчера,
За все что завтра ждем!
(Михаил Исаковский, 1942 год)
Русланова со своей бригадой много уже где побывала: и на юге, и на юго-западе, и на севере. Концертов дано несметное количество.
И вот в номере гостиницы «Москва» (это теперь всё отели, раньше же их называли гостиницами) идет разговор.
Катаев спрашивает: «Ну, как вам съездилось, Лидия Андреевна?»
«Замечательно!» – отвечает та.
И много рассказывает о своей последней поездке. Больше всего ей запомнился концерт в трехстах метрах от линии огня. Успели они его дать тридцать минут до атаки.
Триста метров, тридцать минут. Такие фольклорные числа.
Редко, друзья, нам встречаться приходится,
Но уж когда довелось,
Вспомним, что было, и выпьем, как водится,
Как на Руси повелось!
Пусть вместе с нами семья ленинградская
Рядом сидит у стола.
Вспомним, как русская сила солдатская
Немца за Тихвин гнала!
Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, бился на Волхове,
Не отступил ни на шаг.
Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробивался болотами,
Горло ломая врагу.
Будут навеки в преданьях прославлены
Под пулеметной пургой
Наши штыки на высотах Синявина,
Наши полки подо Мгой.
Встанем и чокнемся кружками, стоя, мы –
Братство друзей боевых,
Выпьем за мужество павших героями,
Выпьем за встречу живых!
(Павел Шубин)
Есть несколько версий этой песни. Этот вариант, как пишут, принадлежал Павлу Шубину. Павел Шубин был корреспондентом газеты «Фронтовая правда» в 377-й стрелковой дивизии Волховского фронта, а в начале 1943 года участвовал в боях у Синявина во время попыток снять блокаду Ленинграда.
Но вернемся к разговору Катаева и Руслановой.
Итак, она рассказывает: они в лесу, в лесу сыро. Они видят маленький, разбитый снарядами и полусожженный домик лесника. Слышна невдалеке артиллерийская подготовка. Иногда даже осколки срезают ветки деревьев.
Русланова стоит на земле, а рядом, на пеньке сидит аккомпаниатор с гармоникой.
Русланова в мордовском ярком сарафане, на ногах – лапти. На голове она повязала цветной платок: на платке по алому полю бегут зеленые розы. Еще что-то желтое (сейчас Русланова точно не помнит.) А вот бусы помнит.
Русланова поет. Примерно сто бойцов слушает ее. Они все в маскировочной форме. Лица их зачернены. «Как у марокканцев», – пишет Катаев. На шее бойцов висят автоматы. Мужчины только вышли из боя, скоро им опять туда.
Это, конечно, поражает тебя, читателя, больше всего: это именно концерт перед боем.
Окрасился месяц багрянцем,
Где волны бушуют у скал.
«Поедем, красотка, кататься,
Давно я тебя поджидал».
«Я еду с тобою охотно,
Я волны морские люблю.
Дай парусу полную волю,
Сама же я сяду к рулю».
«Ты правишь в открытое море,
Где с бурей не справиться нам.
В такую шальную погоду
Нельзя доверяться волнам».
«Нельзя? Почему ж, дорогой мой?
А в прошлой, минувшей судьбе,
Ты помнишь, изменщик коварный,
Как я доверялась тебе?»
«Послушай, мы жизнью рискуем,
Безумная, руль поверни!
На это сердитое море,
На эти ты волны взгляни».
А волны бросаются с ревом
На их беззащитный челнок.
«Прочь весла! От гибели верной
Спасти чтоб никто нас не мог!
Меня обманул ты однажды,
Сегодня тебя провела.
Смотри же: вот ножик булатный,
Недаром с собою взяла!»
И это сказавши, вонзила
В грудь ножик булатный ему.
Сама с обессиленным сердцем
Нырнула в морскую волну.
Всю ночь волновалося море,
Ревела морская волна;
А утром приплыли два трупа
И щепки того челнока.
...Опять же не уверен, что именно этот изначальный, канонический текст песни пела тогда Русланова. Скорей всего, там была укороченная версия. По крайней мере, я в детстве своем, по радио, слышал более приглаженный вариант: никаких там трупов, никаких щепок.
Но голос Руслановой летит, пламенеют яркие краски ее костюма.
Звуки ее песни мешаются со звуком вражеских мин. (И ты опять поражаешься этому, но так записано и так рассказано, значит, так и было.)
И вот певица заканчивает.
К ней подходит молодой боец, говорит: «Видишь, какие мы чумазые после боя. Но песней своей ты нас умыла, как мать умывает своих детей. Спасибо. Сердце оттаяло. Спой еще».
И она поет еще.
Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой.
И колокольчик, дар Валдая,
Звенит уныло под дугой…
Но всё, концерту пора заканчиваться: подана команда, бойцы уходят в лес.
И вот уже треск автоматов, отдаленное «ура». Кто выживет из них?
Этот текст Катаева про Русланову написан в 42-ом.
Ах ты, степь широкая, степь
раздольная,
Ой да Волга-матушка, Волга
вольная…
А вот уже совсем другая тема – из другого времени, тоже трудного. И это уже Чуковский.
Однажды Чуковский записал в дневнике:
«Третьего дня на лестнице Госиздата встретил "Прекрасную Даму" Любовь Дмитриевну Блок. Служит в Госиздате корректоршей, большая, рыхлая, 45-летняя женщина. Вышла на площадку покурить. Глаза узкие. На лоб начесана челка. Калякает с другими корректоршами.
– Любовь Дмитриевна, давно ли вы тут?
– Очень давно.
Того чувства, что она "воспетая", "бессмертная" женщина, у нее не заметно нисколько, да и все окружающее не способствует развитию подобных бессмысленных чувств».
Ее муж когда-то написал свое знаменитое:
В ночь, когда Мамай залег с ордою
Степи и мосты,
В темном поле были мы с Тобою, –
Разве знала Ты?
Перед Доном темным и зловещим,
Средь ночных полей,
Слышал я Твой голос сердцем вещим
В криках лебедей.
С полуно’чи тучей возносилась
Княжеская рать,
И вдали, вдали о стремя билась,
Голосила мать.
И, чертя круги, ночные птицы
Реяли вдали.
А над Русью тихие зарницы
Князя стерегли.
Орлий клёкот над татарским станом
Угрожал бедой,
А Непрядва убралась туманом,
Что княжна фатой.
И с туманом над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла, в одежде свет струящей,
Не спугнув коня.
Серебром волны блеснула другу
На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу
На моем плече.
И когда, наутро, тучей черной
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.
(Александр Блок, «На поле Куликовом»)
Ее, Менделееву, принято ругать. Ахматова вообще не стеснялась: называла «круглой дурой». Но все-таки лучшую, чем изначальная, строчку из Двенадцати придумала именно Менделеева. «Шоколад Миньон жрала». У Блока было хуже: «юбкой улицу мела». А юбки теперь носят короткие, покаянно заметил Блок.
... Вот же, как он вяжется, текст. От девочки в сандаликах на даче Чуковского, через Русланову, Блока – опять к Чуковскому. Но и Блока не забудем.
Об этом эпизоде именно Чуковский вспомнил однажды и записал.
Кто-то другой ему рассказал, но теперь нам кажется, что это с Чуковским и было.
...Идет, идет по неуютному, раннесоветскому Петрограду молодой человек на лекцию. Точнее: на лекцию по истории западных литератур. А читает эти лекции у них сам Блок.
Может, молодой человек и прогулял бы (сейчас вы поймете, откуда эта тема пропуска занятий возникла), но никак нельзя: он староста.
А в Доме искусств тогда стоял самый настоящий мороз. Там даже чернила в чернильнице надо размораживать. Что староста и делает: расстегивается, ставит ледяную чернильницу себе на живот. В конце лекции он вернет чернильницу на стол, а Александр Блок распишется в журнале.
Пушкинскому дому
Имя Пушкинского Дома
В Академии наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!
Это – звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке,
Это – древний Сфинкс, глядящий
Вслед медлительной волне,
Всадник бронзовый, летящий
На недвижном скакуне.
Наши страстные печали
Над таинственной Невой,
Как мы черный день встречали
Белой ночью огневой.
(Александр Блок)
Но пока Блок читает свою лекцию (нет-нет, он ее не в Пушкинском доме читает, просто очень уж важно было дать это последнее стихотворение Блока, в котором так четко прописано его уважение к культуре), он никуда не смотрит: ни в журнал, ни на стол, ни в аудиторию. Блок смотрит в окно. И туда – небу, ветках – всё это и рассказывает.
И вот однажды на блоковскую лекцию не приходит никто. Кроме замёрзшего, как чернильница, юноши, подневольного старосты.
Заходит Блок, окидывает взглядом пустую аудиторию, спрашивает: а где же слушатели? «Видимо, не собрались», – отвечает юноша-чернильница. И тут Александр Блок начинает читать свою лекцию для единственного слушателя.
Дон Кихот, Сервантес, легенда о Дон Жуане.
Шаги командора
Тяжкий, плотный занавес у входа,
За ночным окном – туман.
Что теперь твоя постылая свобода,
Страх познавший Дон-Жуан?
Холодно и пусто в пышной спальне,
Слуги спят, и ночь глуха.
Из страны блаженной, незнакомой, дальней
Слышно пенье петуха.
Что изменнику блаженства звуки?
Миги жизни сочтены.
Донна Анна спит, скрестив на сердце руки,
Донна Анна видит сны…
Чьи черты жестокие застыли,
В зеркалах отражены?
Анна, Анна, сладко ль спать в могиле?
Сладко ль видеть неземные сны?
Жизнь пуста, безумна и бездонна!
Выходи на битву, старый рок!
И в ответ — победно и влюбленно -
В снежной мгле поет рожок…
Пролетает, брызнув в ночь огнями,
Черный, тихий, как сова, мотор,
Тихими, тяжелыми шагами
В дом вступает Командор…
Настежь дверь. Из непомерной стужи,
Словно хриплый бой ночных часов -
Бой часов: "Ты звал меня на ужин.
Я пришел. А ты готов?.."
На вопрос жестокий нет ответа,
Нет ответа – тишина.
В пышной спальне страшно в час рассвета,
Слуги спят, и ночь бледна.
В час рассвета холодно и странно,
В час рассвета – ночь мутна.
Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! – Тишина.
Только в грозном утреннем тумане
Бьют часы в последний раз:
Донна Анна в смертный час твой встанет.
Анна встанет в смертный час.
(Алесандр Блок)
Ледяная чернильница постепенно согревается и оттаивает на худом животе. Блок читает уже два часа. Чернила уже жидкие, скоро ими можно будет сделать запись в журнал. Но Блок только через два часа прерывается и говорит бедному старосте: «Давайте я десять минут отдохну – и потом прочту вам ещё два часа?»
Даже не хочется думать, что говорит про себя обреченный на знания студент. (Студент, студень – опять эти неожиданные смысловые рифмы: мы же помним, как там в аудитории холодно.)
И вот опять течет глуховатая лекция. (У Блока был глуховатый, невыразительный голос. Я представляю, как он должен был усыплять.)
Но вроде всё кончилось. Студент (а это был Андроников, Ираклий Андроников, наконец я вспомнил, кто рассказывал Чуковскому эту историю), вынимает из-под свитера и пальто теплую чернильницу, ставит её на озябший стол. Блок берет журнал, открывает его, опускает туда перо, задумывается и пишет: «История западных литератур – 1 час. Ал. Блок...»
Потом прощается, надевает свою котиковую шапочку и покидает зал.
Читать четыре часа, для всего одного слушателя, записать один час.
Все-таки Блок невероятный.
***
Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла,
И, словно облаком суровым,
Грядущий день заволокла.
За тишиною непробудной,
За разливающейся мглой
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молньи боевой.
Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!
Над вражьим станом, как бывало,
И плеск и трубы лебедей.
Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. – Молись!
Блок записал однажды в дневнике: «Всякая культура – научная ли, художественная ли – демонична. И именно чем научнее, чем художественнее, тем демоничнее. Уж, конечно, не глупое профессорье – носитель той науки, которая теперь мобилизуется на борьбу с хаосом. Та, наука – потоньше ихней».
Тут лучше всего это просторечное «ихней».
Как же он чувствовал слово.
Только «ихней», никак не «их» – тут только это просторечное должно стоять. Только оно.