Игорь Караулов
Смерть Александра Ерёменко дает нам повод не только вспомнить его стихи, но и поговорить о его легендарном молчании.
Ерёменко был Сэлинджером современной русской поэзии. Его роль в текущем поэтическом процессе заключалась в том, что он молчал. Молчание было его миссией, он совершал работу молчания, и результат этой работы был востребован современниками. Подобно тому как пауза может быть красноречивее слов, которые она разделяет, многие ценили молчание Ерёменко выше говорения иных признанных величин. Как написал пару лет назад Виталий Пуханов, также не чуждый опыта молчания в своей жизни, «самым важным событием в поэзии последних десятилетий для меня осталось молчание Александра Ерёменко». И на моей памяти так высказывался не он один.
Теперь эта работа молчания завершена, пост сдан. Мёртвый поэт молчит по необходимости, но на волевое усилие молчания он уже не способен.
Мировой образец молчания поэта был воплощён в Артюре Рембо, который бросил писать стихи в возрасте 24 лет. Но этот случай ложился в иную, романтическую парадигму, согласно которой поэтическая гениальность – свойство молодости; с началом взрослой жизни дар уходит, и тогда поэту следует либо физически убить себя, либо убить в себе стихотворца. В той же парадигме находится и мнение Роберта Грейвса, который на примере судьбы Джона Китса постановил, что после 25 лет стихи писать уже не стоит.
В истории русской поэзии молчание поэта как литературный факт связано в первую очередь с именем Константина Батюшкова, однако причиной молчания в этом случае называется душевная болезнь, при этом те стихи, которые всё-таки были написаны поэтом в состоянии помешательства, лишь с точки зрения XIX столетия выглядят как однозначный бред, в то время как опыт русского авангарда заставляет взглянуть на них несколько иначе.
Но казус Ерёменко не встраивается ни в ту, ни в другую модель. С одной стороны, он расстался со стихотворчеством в достаточно зрелом возрасте, порядка 40 лет, поэтому нельзя сказать, что дар его имел возрастную, «гормональную» природу. С другой стороны, судя по рассказам о нём, психика у него была здоровая. Много пил? Да кто же из его поколения не пил? Да и в самые плодотворные годы он, наверное, пил не меньше, чем в годы молчания («Я заметил, что, сколько ни пью, всё равно выхожу из запоя»). Во всяком случае, до семидесяти он дожил, и это уже о чём-то говорит.
Ситуация становится ещё менее понятной, если вспомнить, что полного молчания-то и не было. Например, в 2008 году в журнале «Дети Ра» вышло интервью с поэтом под сенсационным заголовком: «У меня есть новые стихи…». В конце интервью собеседник Ерёменко, поэт Андрей Пермяков, спрашивает: «молчание автора – это жест»? На что Ерёменко отвечает: «Тут я залез в Интернет, в том числе посмотрел, что обо мне пишут, статьи разные. Ох, с каким кайфом разные люди там говорят, что он давно не пишет! Торжественно даже всё подаётся. Зачем? Ну, не пишет и не пишет. Это для вас трагедия. Для меня здесь трагедии нет. Я не хочу полностью зависеть, так, как зависит, например, тот же Кушнер, даже не от своих привязанностей, а от своих способностей. Я не хочу всю жизнь быть поэтом, который пишет и печатается. У меня есть новые стихи. Не значит же это, что я их должен печатать сразу».
Вот что тут любопытно. Интервьюер говорит о «молчании» как о чём-то общеизвестном и само собой разумеющемся, хотя он не мог не знать, что подборка новых стихотворений Ерёменко вышла в журнале «Знамя» ещё в январе 2005 года. Один из этих текстов – «Возложите на Правду венки…» – не раз цитировался в Сети в связи со смертью поэта. Но в то время литературная общественность предпочла подборку не заметить и, можно сказать, попытку вернуться в строй не засчитала.
У меня нет сомнений в том, что на эту попытку Ерёменко спровоцировало триумфальное возвращение в действующую армию стихотворцев Алексея Петровича Цветкова, которое случилось осенью 2004 года.
Сложно сказать, стал ли полной удачей фокус Цветкова с разоблачением собственного молчания. Поначалу это казалось чудом воскрешения Лазаря. Его новые стихи были не только приняты на ура, но и оказали немедленное влияние на пишущее сообщество: несколько поэтов тут же перешло на запись стихов без знаков препинания и прописных букв – на пару сезонов или навсегда. Однако с течением времени размеренное стрекотание цветковской стихопишущей машинки, перерабатывающей одни и те же идеи и сюжеты в однообразные рифмованные тексты, начало раздражать. Между тем, надо сказать, что молчание Цветкова в определённом кругу и в определенное время тоже воспринималось как весомый факт литературной жизни. Но с молчанием Ерёменко оно конкурировать не могло. Всё-таки Ерёменко не был эмигрантом, он всё это время жил рядом, на Патриарших, кто-то бывал у него, где-то бывал он сам, наконец, даже новобранцы Литинститута норовили между собой называть его «Ерёмой» (примерно как Ходасевича запросто называли «Ходасём»). Этот фактор «короля поэтов», стоящего живым укором над душой у каждого пишущего, оказался очень значимым.
Поэтому Ерёменко был неправ, если он действительно считал, что его неписание было для кого-то трагедией. Мир не жаждал его новых стихов. И сообщество отмахнулось от его поздних попыток не только и не столько потому, что они были плохи, сколько потому, что миф о великом молчальнике оказался ценнее. Конечно, никто не затыкал ему рот, ничто не мешало ему писать дальше в том же духе или сменить манеру письма, если бы он этого захотел. Но всё же были причины, по которым его молчание стало полноценным поэтическим высказыванием, уже ставшим частью истории литературы.
Самое близкое, за что тут можно ухватиться, и самое, наверное, маловажное – это проблема поэтической иерархии. Вопрос о первом русском поэте всегда стоит остро, и его надо как-то решать. А кто стал первым поэтом после смерти Бродского? Ерёменко, демократически избранный «королем поэтов» ещё в 1982 году, за день до смерти Брежнева, был в этом качестве очень удобен как автор с максимальной потенциальной энергией и нулевой энергией кинетической. Король царствовал, но не правил: поскольку в реальном времени он никого за пояс не затыкал, признавать его первенство было не обидно. Зато его именем можно было и клясться, и клеймить, и судить наличную реальность литпроцесса. Вот вы тут все пишете, строчите, бездари, а Ерёма молчит. Вы суетитесь, публикуетесь, фестивалите, друг друга нахваливаете, а Ерёма молча смотрит на этот позор. Вот Ерёма бы вам показал, всех разогнал бы. Да и вообще, если Ерёма молчит, может быть, он это из-за вас молчит, не хочет с вами жить на одной грядке? Таким образом, молчание Ерёменко становилось не только его личным, но и коллективным высказыванием.
Более глубокая причина – историческая. Александр Ерёменко – подлинно советский поэт. Да, советский в том самом довлатовском смысле («советский, антисоветский, какая разница?») – но тем не менее коренная связь его с советской эпохой очевидна. Можно сказать, он был последним великим советским поэтом. К примеру, Иван Жданов, его соратник по метареализму, который тоже не пишет стихов с начала девяностых – внесоветский поэт, который разворачивал свою вселенную без оглядки на внешнюю несвободу и мимо всех этих кухонно-интеллигентских диспозиций и оппозиций, культов и антикультов, намёков и полунамеков для понимающих, как бы «для вечности». А вот Ерёменко был весь в этом – в пышном гниении брежневского декаданса, в сопротивлении государственному и общественному диктату, в советском культе науки и техники, причудливо преломлённом в его стихах, в поэтике безвременья, в полемике с шестидесятниками и прочим официозом, в наборе опознавательных цитат «для своих», в тамиздате и самиздате. И говоря о самиздате, в определенном аспекте предсказал свою литературную судьбу.
САМИЗДАТ 80 ГОДА
За окошком свету мало,
белый снег валит-валит.
Возле Курского вокзала
домик маленький стоит.
За окошком свету нету.
Из-за шторок не идет.
Там печатают поэта –
шесть копеек разворот.
Сторож спит, культурно пьяный,
бригадир не настучит;
на машине иностранной
аккуратно счетчик сбит.
Без напряга, без подлянки
дело верное идет
на Ордынке, на Полянке,
возле Яузских ворот...
Эту книжку в ползарплаты
и нестрашную на вид
в коридорах Госиздата
вам никто не подарит.
Эта книжка ночью поздней,
как сказал один пиит,
под подушкой дышит грозно,
как крамольный динамит.
И за то, что много света
в этой книжке между строк,
два молоденьких поэта
получают первый срок.
Первый срок всегда короткий,
а добавочный – длинней,
там, где рыбой кормят чётко,
но без вилок и ножей.
И пока их, как на мине,
далеко заволокло,
пританцовывать вело,
что-то сдвинулось над ними,
в небесах произошло.
За окошком света нету.
Прорубив его в стене,
запрещённого поэта
напечатали в стране.
Против лома нет приёма,
и крамольный динамит
без особенного грома
прямо в камере стоит.
Два подельника ужасных,
два бандита – Бог ты мой! –
недолеченных, мосластых
по Шоссе Энтузиастов
возвращаются домой.
И кому всё это надо,
и зачем весь этот бред,
не ответит ни Лубянка,
ни Ордынка, ни Полянка,
ни подземный Ленсовет,
как сказал
другой поэт.
Так оно и вышло. Запрещённое стало разрешенным, а вскоре и вовсе обыденным. Прежние культурные коды ещё считывались, но уже потускнели. Фиги в кармане сильно упали в цене. Уютная, но тоскливая реальность, над которой привыкли издеваться, рухнула и сменилась реальностью незнакомой, непонятной, опасной и совершенно не боявшейся иронии, просто не замечавшей её. Ветер экономических реформ подразметал пьяные творческие компании, в которых так ценились спонтанные доморощенные прозрения. И в этой новой реальности молчание Ерёменко стало точкой отсечки, важным знаком прощания с ушедшей эпохой, лучшим певцом которой он был. Что было в Вегасе, должно остаться в Вегасе.
Но, помимо исторического объяснения, есть ещё и объяснение чисто поэтическое, связанное с развитием самой поэзии, которое, хоть и зависит от смены государственных режимов, всё же отличается своеобразием волн и ритмов. Поэты, которых Константин Кедров назвал метаметафористами, а Михаил Эпштейн – метареалистами, формировались в тени Иосифа Бродского. Бродский задал новый стандарт сложности, и метареалисты стремились этот стандарт превзойти, писать ещё сложнее, ещё более завёрнуто, выйти на новый уровень осмысления себя и мира. Это неудивительно, потому что в то время прогресс по умолчанию понимался как движение от простого к сложному, стало быть, лучше – значит сложнее.
Поэтика Александра Ерёменко стоит на двух ногах – или, если угодно, летает на двух крыльях. С одной стороны, ирония, социальность, интертекстуальность сближают его с такими авторами как Тимур Кибиров, Игорь Иртеньев или Виктор Коркия. С другой стороны, в изощренной эквилибристике образов он не уступает Ивану Жданову и Алексею Парщикову.
***
Осыпается сложного леса пустая прозрачная схема,
шелестит по краям и приходит в негодность листва.
Вдоль дороги пустой провисает неслышная лемма
телеграфных прямых, от которых болит голова.
Разрушается воздух, нарушаются длинные связи
между контуром и неудавшимся смыслом цветка,
и сама под себя наугад заползает река,
а потом шелестит, и они совпадают по фазе.
Электрический ветер завязан пустыми узлами,
и на красной земле, если срезать поверхностный слой,
корабельные сосны привинчены снизу болтами
с покосившейся шляпкой и забившейся глиной резьбой.
И как только в окне два ряда отштампованных ёлок
пролетят, я увижу: у речки на правом боку
в непролазной грязи шевелится рабочий поселок
и кирпичный заводик с малюсенькой дыркой в боку...
Что с того, что я не был здесь целых одиннадцать лет?
За дорогой осенний лесок так же чист и подробен.
В нем осталась дыра на том месте, где Колька Жадобин
у ночного костра мне отлил из свинца пистолет.
Там жена моя вяжет на длинном и скучном диване,
там невеста моя на пустом табурете сидит.
Там бредет моя мать то по грудь, то по пояс в тумане,
и в окошко мой внук сквозь разрушенный воздух глядит.
Я там умер вчера, и до ужаса слышно мне было,
как по твердой дороге рабочая лошадь прошла,
и я слышал, как в ней, когда в гору она заходила,
лошадиная сила вращалась, как бензопила.
Но в конце концов метареализм свалился под тяжестью взятой на себя задачи. Новый стандарт сложности для всего поэтического сообщества ему задать не удалось. Поэтический процесс обогнул воздвигнутые метареалистами пирамиды и пошёл иными путями. Это было похоже на вымирание динозавров, которых сменили вовсе не мега-динозавры, а куда более скромные по своим размерам млекопитающие. Млекопитающих мы, тем не менее, считаем совершеннее, хотя бы потому что сами к ним принадлежим. Но стала ли совершеннее русская поэзия, заметно упростившаяся в девяностые годы прошлого века? На этот счёт есть разные мнения, и для тех людей, которые на этот вопрос отвечают отрицательно, фигура замолчавшего Ерёменко оказалась особенно красноречивой.
Лирический герой Ерёменко – это взрослый мужик с техническим образованием, тот самый тип, который стал первейшей жертвой нашей геополитической катастрофы. Этот герой не страдает показной брутальностью, но говорит уверенным голосом и при случае может дать в морду. Герой такого рода перестал приветствоваться в нашей поэзии задолго до нынешнего подъема фем-письма и травматических штудий. Во всяком случае, стихов в этом духе в постсоветской России стало писаться гораздо меньше. Чего же стало больше? Концептуальной придурковатости. Самоанализа, ранимости, растерянности – всего того, что стали называть «новой искренностью». Больше стало инфантилизма; появилось множество стихов, написанных о детстве или с точки зрения ребёнка («я такой маленький в этом враждебном мире»). В нулевые к этому коктейлю добавилась специфическая брутальность слэмов, которая, однако, имеет не столько взрослую, сколько подростковую природу. Всё это было несовместимо с поэтикой Ерёменко; ему просто нечего было делать на поэтическом рынке.
Впрочем, его славе молчание не угрожало. Как известно, новые песни пишут те, у кого старые плохие. Старые песни Ерёменко поэты хорошо помнят и, может быть, не раз ещё споют на новый лад.
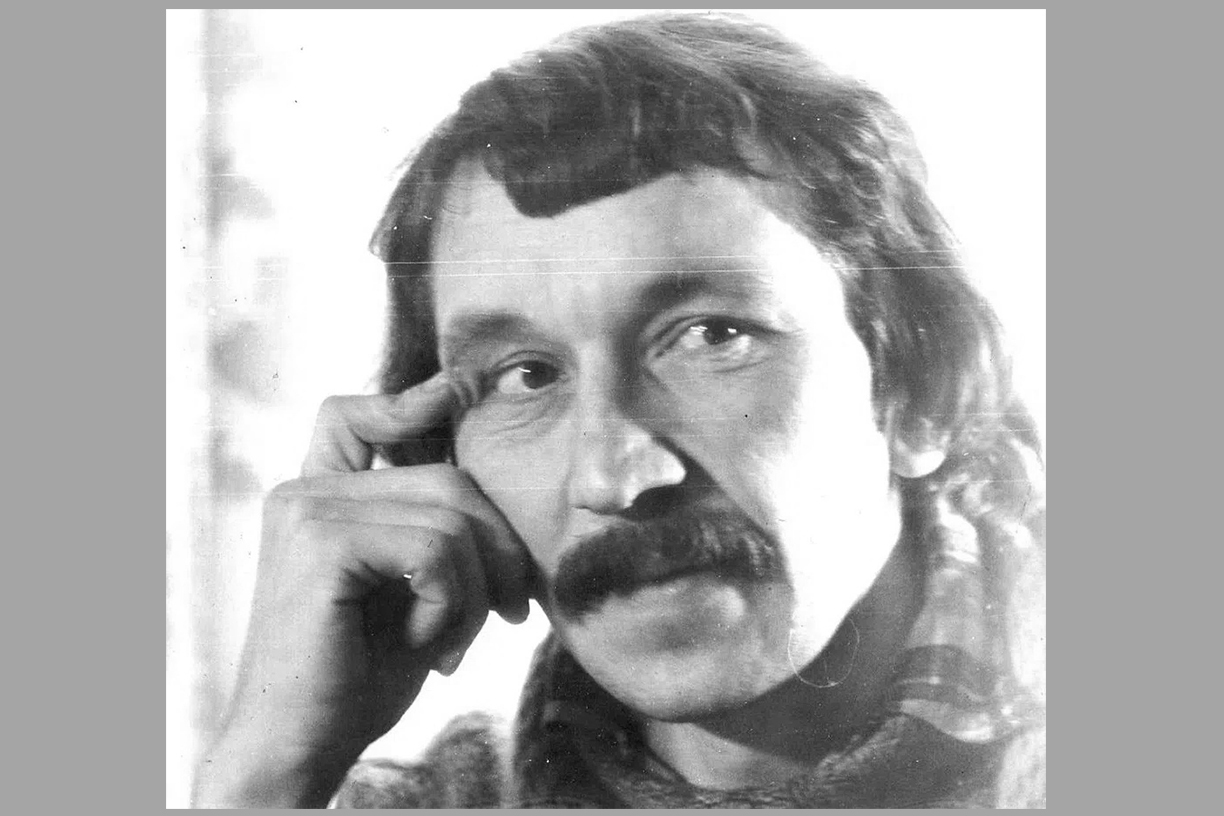
2021-06-24 18:26
Поэзия
