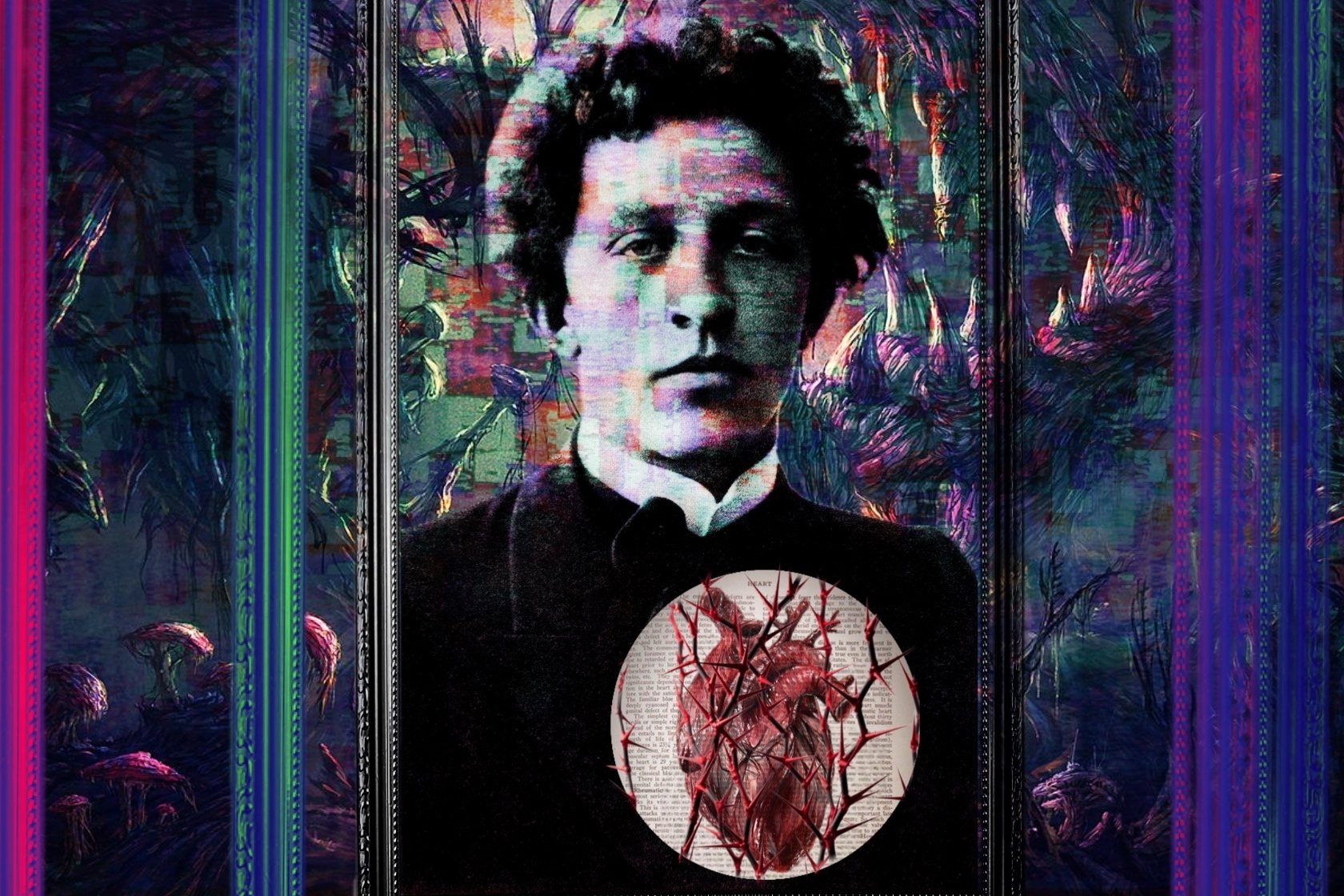Гумилев написал когда-то в одном стихотворении:
И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
Оно – колокольчик фарфоровый в жёлтом Китае...
А вот у Блока болело.
...Когда думаешь, можно ли было спасти наших лучших поэтов, сперва начинаешь думать про Пушкина. Умер он от огнестрельного ранения в нижнюю часть живота, и сразу вопрос: смогли бы его спасти сейчас? При нынешнем уровне медицины. А потому думаешь: но даже тогда правильно ли оказали помощь раненому и можно ли вообще было спасти Пушкина в то время?
И про Блока тоже так думаешь.
Сверкни, последняя игла,
В снегах!
Встань, огнедышащая мгла!
Взмети твой снежный прах!
Убей меня, как я убил
Когда-то близких мне!
Я всех забыл, кого любил,
Я сердце вьюгой закрутил,
Я бросил сердце с белых гор,
Оно лежит на дне!
Я сам иду на твой костер!
Сжигай меня!
Пронзай меня,
Крылатый взор,
Иглою снежного огня!
Это стихотворение так и называется – «Сердце предано метели».
И хотя сердце Блока действительно было больным, все равно нет точного диагноза смерти: нет истории болезни, не было вскрытия.
Его наблюдал в последние полтора года врач Александр Пекелис, но там уж слишком краткая история болезни. И непонятный диагноз от Минца об эпилепсии, который поставил его исходя из стихов Блока. (Как? Что? Как вообще могло быть?)
Ну и романтическая версия: Блок умер от разочарования.
Но тут уже Блок сам «виноват». Это же он сказал про Пушкина:
«Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура».
К справедливости уже версии про сердце – одна из последних его записей в дневнике: «Мне трудно дышать, сердце заняло полгруди».
...С сердцем в детстве у Блока все, впрочем, было в порядке. Единственное, что могло вызывать опасение: нервы. Он был единственным ребенком, его баловали, был слишком эмоционален. Его мать вспоминала: «проявлялась его нервность, которая выражалась в том, что он с трудом засыпал, легко возбуждался, вдруг делался раздражителен и капризен».
И тетка с этим согласна: «Нервность эта была очень понятна, так как Саша родился при тяжёлых условиях и родители его, особенно мать, были очень нервные люди».
А вот первая серьезная болезнь пришла в шесть лет. Туберкулезный отец – у маленького Саши экссудативный плеврит. Впрочем, известный питерский педиатр Георгий Андреевич Каррик смог выходить маленького Блока. И теперь мальчик выполняет строго всё, что касается его здоровья. Послушный пациент. Чистый ангел.
В туманах, над сверканьем рос,
Безжалостный, святой и мудрый,
Я в старом парке дедов рос,
И солнце золотило кудри.
Не погасал лесной пожар,
Но, гарью солнечной влекомый,
Стрелой бросался я в угар,
Целуя воздух незнакомый.
И проходили сонмы лиц,
Всегда чужих и вечно взрослых,
Но я любил взлетанье птиц,
И лодку, и на лодке весла.
Я уплывал один в затон
Бездонной заводи и мутной,
Где утлый остров окружен
Стеною ельника уютной.
И там в развесистую ель
Я доску клал и с нею реял,
И таяла моя качель,
И сонный ветер тихо веял.
И было как на Рождестве,
Когда игра давалась даром,
А жизнь всходила синим паром
К сусально-звездной синеве.
(Июль 1905 года)
Иногда все-таки приходилось на лодке не кататься, а зимой на Рождество по снегу не бегать. В 12 лет у него отит, в 13 – корь с длительным бронхитом. В 16 лет Блок повторно перенес какую-то болезнь, которую называли «пензенской лихорадкой». Я поискал, что бы это могло значить – ничего не нашел.
Милый друг, и в этом тихом доме
Лихорадка бьет меня.
Не найти мне места в тихом доме
Возле мирного огня!
Голоса поют, взывает вьюга,
Страшен мне уют…
Даже за плечом твоим, подруга,
Чьи-то очи стерегут!
За твоими тихими плечами
Слышу трепет крыл…
Бьет в меня светящими очами
Ангел бури – Азраил!
Понятно, что Блок тут о другой лихорадке, но просто сразу вспомнилось.
... Есть мнение, что все болезни мальчика, а потом подростка, а потом и юноши в семье сильно преувеличивали (он же единственный ребенок).
Например, когда Блоку уже 20 лет и они с матерью на водах в Бад-Наухайм, мать ведет его к медицинскому светилу Владимиру Михайловичу Кернигу, чтобы тот назначил «больному мальчику» лечение. Доктор неумолим: «Грешно лечить этого молодого человека».
А вот настоящие первые проблемы с сердцем начинаются у Блока в 1909 году, когда умирает его отец.
И еще нервы, нервы.
В 1913 году Блок пишет в дневнике – «дни невыразимой тоски и страшных сумерек», «бездонная тоска», «сон тревожный».
Правда, когда Блок приезжает в деревню и стоит только ему «помахать топором», состояние его здоровья сильно улучшается. Значит, не было органического поражения сердечно-сосудистой системы.
О, весна без конца и без краю –
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха – позорного нет!
Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!
Принимаю пустынные веси!
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабьих трудов!
И встречаю тебя у порога –
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах…
Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита…
Никогда не откроешь ты плечи…
Но над нами – хмельная мечта!
И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель – я знаю –
Всё равно: принимаю тебя!
(1907 год)
Так что же убило Блока?
Это началось уже 1920 году, а как о болезни врачи заговорили о ней с весны 1921-го.
Блок стал жаловаться на боль в ногах, ему мешала одышка, он «чувствовал» сердце и уставал, когда поднимался всего на второй этаж.
Он и внешне очень сильно изменился.
Когда с безжалостным страданьем
В окно глядит угрюмый день,
В душе проходит тоскованьем
Прошедших дней младая тень.
Душа болит бесплодной думой,
И давит, душит мыслей гнет:
Назавтра новый день угрюмый
Еще безрадостней придет.
Это раннее стихотворение, еще 1899-го, но, наверное, так чувствует себя и сорокалетний Блок.
Он и внешне сильно изменился. Вот описание Чуковского: «Передо мною сидел не Блок, а какой-то другой человек, совсем другой, даже отдаленно не похожий на Блока. Жесткий, обглоданный, с пустыми глазами, как будто паутиной покрытый. Даже волосы, даже уши стали другими».
Как тяжело ходить среди людей
И притворятся непогибшим,
И об игре трагической страстей
Повествовать еще не жившим.
И, вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельной пожар!
Тут, впрочем, Блок уже и не ходит. Это люди к нему осторожно приходят, проведать больного. Чуковский, не видевший некоторое время Блока, даже пугается. Все развивается слишком быстро.
Апрель всё ухудшил. Врач кремлевской больницы пишет: «Сильное истощение и малокровие, глубокую неврастению, на ногах цинготные опухоли и расширение вен, велела мало ходить, больше лежать, дала мышьяк и стрихнин, никаких органических повреждений нет».
Стрихнин-то зачем?
А вот и сердце. У Блоха находят «увеличение сердца влево на палец и вправо на 1 ½, шум нерезкий на верхушке и во 2-м межреберном промежутке справа, температура 39».
Вообще странные врачи. Только две недели спустя врач, который отвечает за Блока, ставит нужный диагноз: «Настоящая сердечная болезнь, а не неврозы, которые бывают обманчивы».
Блоку назначают полный покой. Как будто он кому-нибудь может помочь.
Не уверен, что Ахматова знала об этой рекомендации врачей, но звучит все равно в этом контексте сильно:
Он прав – опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит…
Как памятник началу века,
Там этот человек стоит –
Когда он Пушкинскому Дому,
Прощаясь, помахал рукой
И принял смертную истому
Как незаслуженный покой.
Дни болезни тяжелые. Блок пишет 26-28 мая 1921 года: «Сейчас у меня ни души, ни тела нет, я болен, как не был никогда еще: жар не прекращался и всё всегда болит… уже вторые сутки – сердечный припадок… я две ночи почти не спал, температура то ниже, то выше 38. Принимаю массу лекарств, некоторые немного помогают. Встаю с постели редко, больше сижу там, лежать нельзя из-за сердца».
Но вот приходит краткое улучшение. Блок записывает, что «доктор склеил ему сердце». Он пытается работать, разбирает архив. Но через две недели становится еще хуже.
Началась отрицательная динамика. Блок стремительно слабеет, жалуется на боль в груди, иногда испытывает вспышки беспричинной агрессии (это всё направлено на жену), а даже малое раздражение вызывает у Блока приступ удушья, с которым он долго не может справиться. Он не спит, говорит, что боится засыпать: во сне ему приходят кошмары. Может, они похожи на самые страшные его стихи, те, про мертвеца?
Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!
Но надо, надо в общество втираться,
Скрывая для карьеры лязг костей…
Живые спят. Мертвец встает из гроба,
И в банк идет, и в суд идет, в сенат…
Чем ночь белее, тем чернее злоба,
И перья торжествующе скрипят.
Мертвец весь день труди́тся над докладом.
Присутствие кончается. И вот –
Нашептывает он, виляя задом,
Сенатору скабрезный анекдот…
Уж вечер. Мелкий дождь зашлепал грязью
Прохожих, и дома, и прочий вздор…
А мертвеца – к другому безобразью
Скрежещущий несет таксомотор.
В зал многолюдный и многоколонный
Спешит мертвец. На нем – изящный фрак.
Его дарят улыбкой благосклонной
Хозяйка – дура и супруг – дурак.
Он изнемог от дня чиновной скуки,
Но лязг костей музы́кой заглушон…
Он крепко жмет приятельские руки –
Живым, живым казаться должен он!
Лишь у колонны встретится очами
С подругою – она, как он, мертва.
За их условно-светскими речами
Ты слышишь настоящие слова:
«Усталый друг, мне странно в этом зале». –
«Усталый друг, могила холодна». –
«Уж полночь». – «Да, но вы не приглашали
На вальс NN. Она в вас влюблена…»
А там – NN уж ищет взором страстным
Его, его – с волнением в крови…
В её лице, девически прекрасном,
Бессмысленный восторг живой любви…
Он шепчет ей незначащие речи,
Пленительные для живых слова,
И смотрит он, как розовеют плечи,
Как на плечо склонилась голова…
И острый яд привычно-светской злости
С нездешней злостью расточает он…
«Как он умён! Как он в меня влюблён!»
В её ушах – нездешний, странный звон:
То кости лязгают о кости.
И вот собирается консилиум. Но он бесполезен.
Ничего не помогает. Блоку все хуже. Как обычно тут делается много бессмысленного: Горький хлопочет о санатории для Блока. Но какой санаторий, Блок уже при смерти. Он даже уже не хочет есть: отказывается.
«Все предпринимавшиеся меры лечебного характера не достигали цели, а в последнее время больной стал отказываться от приема лекарств, терял аппетит, быстро худел, заметно таял и угасал и при всё нарастающих явлениях сердечной слабости тихо скончался».
В 10 часов 30 минут 7 августа 1921 года Блока не стало.
Если поискать умозаключения современных врачей, которые они делали по тем старым записям, то скорее всего это был септический эндокардит, медленно подкрадывающийся недуг, который сперва маскируется под некоторые другие болезни, тот же невроз или лихорадку. Читаю тут: «До открытия антибиотиков прогрессирующий эндокардит приводил к смерти практически всегда».
Бром тут не помощник, мышьяк тем более.
Дальше читаю: «Эндокардит, вероятнее всего, был вызван хроническим тонзиллитом – если бы операцию провели бы и провели бы вовремя, шанс бы был». Господи, то есть получается Блок умер от запущенной ангины?
...Но вернемся к тому, с чего все начиналось, к стихотворению Гумилева, из которого я помню – как облако, как образ – только две строчки из одной строфы.
А стихотворение ведь не маленькое:
Я верил, я думал, и свет мне блеснул наконец;
Создав, навсегда уступил меня року Создатель;
Я продан! Я больше не Божий! Ушёл продавец,
И с явной насмешкой глядит на меня покупатель.
Летящей горою за мною несётся Вчера,
А Завтра меня впереди ожидает, как бездна,
Иду… но когда-нибудь в Бездну сорвётся Гора.
Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна.
И если я волей себе покоряю людей,
И если слетает ко мне по ночам вдохновенье,
И если я ведаю тайны – поэт, чародей,
Властитель вселенной – тем будет страшнее паденье.
И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
Оно – колокольчик фарфоровый в жёлтом Китае
На пагоде пёстрой… висит и приветно звенит,
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.
А тихая девушка в платье из красных шелков,
Где золотом вышиты осы, цветы и драконы,
С поджатыми ножками смотрит без мыслей и снов,
Внимательно слушая лёгкие, лёгкие звоны.
Одна девушка уже пела, правда, в другом платье, и пела в церковной хоре. Она разбудила своим голосом ребенка, не обычного, как будто небесного, который плакал и плакал о том, что никто не вернется, никто не придет назад. Даже Блок.
И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
Оно – колокольчик фарфоровый в жёлтом Китае...
А вот у Блока болело.
...Когда думаешь, можно ли было спасти наших лучших поэтов, сперва начинаешь думать про Пушкина. Умер он от огнестрельного ранения в нижнюю часть живота, и сразу вопрос: смогли бы его спасти сейчас? При нынешнем уровне медицины. А потому думаешь: но даже тогда правильно ли оказали помощь раненому и можно ли вообще было спасти Пушкина в то время?
И про Блока тоже так думаешь.
Сверкни, последняя игла,
В снегах!
Встань, огнедышащая мгла!
Взмети твой снежный прах!
Убей меня, как я убил
Когда-то близких мне!
Я всех забыл, кого любил,
Я сердце вьюгой закрутил,
Я бросил сердце с белых гор,
Оно лежит на дне!
Я сам иду на твой костер!
Сжигай меня!
Пронзай меня,
Крылатый взор,
Иглою снежного огня!
Это стихотворение так и называется – «Сердце предано метели».
И хотя сердце Блока действительно было больным, все равно нет точного диагноза смерти: нет истории болезни, не было вскрытия.
Его наблюдал в последние полтора года врач Александр Пекелис, но там уж слишком краткая история болезни. И непонятный диагноз от Минца об эпилепсии, который поставил его исходя из стихов Блока. (Как? Что? Как вообще могло быть?)
Ну и романтическая версия: Блок умер от разочарования.
Но тут уже Блок сам «виноват». Это же он сказал про Пушкина:
«Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура».
К справедливости уже версии про сердце – одна из последних его записей в дневнике: «Мне трудно дышать, сердце заняло полгруди».
...С сердцем в детстве у Блока все, впрочем, было в порядке. Единственное, что могло вызывать опасение: нервы. Он был единственным ребенком, его баловали, был слишком эмоционален. Его мать вспоминала: «проявлялась его нервность, которая выражалась в том, что он с трудом засыпал, легко возбуждался, вдруг делался раздражителен и капризен».
И тетка с этим согласна: «Нервность эта была очень понятна, так как Саша родился при тяжёлых условиях и родители его, особенно мать, были очень нервные люди».
А вот первая серьезная болезнь пришла в шесть лет. Туберкулезный отец – у маленького Саши экссудативный плеврит. Впрочем, известный питерский педиатр Георгий Андреевич Каррик смог выходить маленького Блока. И теперь мальчик выполняет строго всё, что касается его здоровья. Послушный пациент. Чистый ангел.
В туманах, над сверканьем рос,
Безжалостный, святой и мудрый,
Я в старом парке дедов рос,
И солнце золотило кудри.
Не погасал лесной пожар,
Но, гарью солнечной влекомый,
Стрелой бросался я в угар,
Целуя воздух незнакомый.
И проходили сонмы лиц,
Всегда чужих и вечно взрослых,
Но я любил взлетанье птиц,
И лодку, и на лодке весла.
Я уплывал один в затон
Бездонной заводи и мутной,
Где утлый остров окружен
Стеною ельника уютной.
И там в развесистую ель
Я доску клал и с нею реял,
И таяла моя качель,
И сонный ветер тихо веял.
И было как на Рождестве,
Когда игра давалась даром,
А жизнь всходила синим паром
К сусально-звездной синеве.
(Июль 1905 года)
Иногда все-таки приходилось на лодке не кататься, а зимой на Рождество по снегу не бегать. В 12 лет у него отит, в 13 – корь с длительным бронхитом. В 16 лет Блок повторно перенес какую-то болезнь, которую называли «пензенской лихорадкой». Я поискал, что бы это могло значить – ничего не нашел.
Милый друг, и в этом тихом доме
Лихорадка бьет меня.
Не найти мне места в тихом доме
Возле мирного огня!
Голоса поют, взывает вьюга,
Страшен мне уют…
Даже за плечом твоим, подруга,
Чьи-то очи стерегут!
За твоими тихими плечами
Слышу трепет крыл…
Бьет в меня светящими очами
Ангел бури – Азраил!
Понятно, что Блок тут о другой лихорадке, но просто сразу вспомнилось.
... Есть мнение, что все болезни мальчика, а потом подростка, а потом и юноши в семье сильно преувеличивали (он же единственный ребенок).
Например, когда Блоку уже 20 лет и они с матерью на водах в Бад-Наухайм, мать ведет его к медицинскому светилу Владимиру Михайловичу Кернигу, чтобы тот назначил «больному мальчику» лечение. Доктор неумолим: «Грешно лечить этого молодого человека».
А вот настоящие первые проблемы с сердцем начинаются у Блока в 1909 году, когда умирает его отец.
И еще нервы, нервы.
В 1913 году Блок пишет в дневнике – «дни невыразимой тоски и страшных сумерек», «бездонная тоска», «сон тревожный».
Правда, когда Блок приезжает в деревню и стоит только ему «помахать топором», состояние его здоровья сильно улучшается. Значит, не было органического поражения сердечно-сосудистой системы.
О, весна без конца и без краю –
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха – позорного нет!
Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!
Принимаю пустынные веси!
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабьих трудов!
И встречаю тебя у порога –
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах…
Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита…
Никогда не откроешь ты плечи…
Но над нами – хмельная мечта!
И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель – я знаю –
Всё равно: принимаю тебя!
(1907 год)
Так что же убило Блока?
Это началось уже 1920 году, а как о болезни врачи заговорили о ней с весны 1921-го.
Блок стал жаловаться на боль в ногах, ему мешала одышка, он «чувствовал» сердце и уставал, когда поднимался всего на второй этаж.
Он и внешне очень сильно изменился.
Когда с безжалостным страданьем
В окно глядит угрюмый день,
В душе проходит тоскованьем
Прошедших дней младая тень.
Душа болит бесплодной думой,
И давит, душит мыслей гнет:
Назавтра новый день угрюмый
Еще безрадостней придет.
Это раннее стихотворение, еще 1899-го, но, наверное, так чувствует себя и сорокалетний Блок.
Он и внешне сильно изменился. Вот описание Чуковского: «Передо мною сидел не Блок, а какой-то другой человек, совсем другой, даже отдаленно не похожий на Блока. Жесткий, обглоданный, с пустыми глазами, как будто паутиной покрытый. Даже волосы, даже уши стали другими».
Как тяжело ходить среди людей
И притворятся непогибшим,
И об игре трагической страстей
Повествовать еще не жившим.
И, вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельной пожар!
Тут, впрочем, Блок уже и не ходит. Это люди к нему осторожно приходят, проведать больного. Чуковский, не видевший некоторое время Блока, даже пугается. Все развивается слишком быстро.
Апрель всё ухудшил. Врач кремлевской больницы пишет: «Сильное истощение и малокровие, глубокую неврастению, на ногах цинготные опухоли и расширение вен, велела мало ходить, больше лежать, дала мышьяк и стрихнин, никаких органических повреждений нет».
Стрихнин-то зачем?
А вот и сердце. У Блоха находят «увеличение сердца влево на палец и вправо на 1 ½, шум нерезкий на верхушке и во 2-м межреберном промежутке справа, температура 39».
Вообще странные врачи. Только две недели спустя врач, который отвечает за Блока, ставит нужный диагноз: «Настоящая сердечная болезнь, а не неврозы, которые бывают обманчивы».
Блоку назначают полный покой. Как будто он кому-нибудь может помочь.
Не уверен, что Ахматова знала об этой рекомендации врачей, но звучит все равно в этом контексте сильно:
Он прав – опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит…
Как памятник началу века,
Там этот человек стоит –
Когда он Пушкинскому Дому,
Прощаясь, помахал рукой
И принял смертную истому
Как незаслуженный покой.
Дни болезни тяжелые. Блок пишет 26-28 мая 1921 года: «Сейчас у меня ни души, ни тела нет, я болен, как не был никогда еще: жар не прекращался и всё всегда болит… уже вторые сутки – сердечный припадок… я две ночи почти не спал, температура то ниже, то выше 38. Принимаю массу лекарств, некоторые немного помогают. Встаю с постели редко, больше сижу там, лежать нельзя из-за сердца».
Но вот приходит краткое улучшение. Блок записывает, что «доктор склеил ему сердце». Он пытается работать, разбирает архив. Но через две недели становится еще хуже.
Началась отрицательная динамика. Блок стремительно слабеет, жалуется на боль в груди, иногда испытывает вспышки беспричинной агрессии (это всё направлено на жену), а даже малое раздражение вызывает у Блока приступ удушья, с которым он долго не может справиться. Он не спит, говорит, что боится засыпать: во сне ему приходят кошмары. Может, они похожи на самые страшные его стихи, те, про мертвеца?
Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!
Но надо, надо в общество втираться,
Скрывая для карьеры лязг костей…
Живые спят. Мертвец встает из гроба,
И в банк идет, и в суд идет, в сенат…
Чем ночь белее, тем чернее злоба,
И перья торжествующе скрипят.
Мертвец весь день труди́тся над докладом.
Присутствие кончается. И вот –
Нашептывает он, виляя задом,
Сенатору скабрезный анекдот…
Уж вечер. Мелкий дождь зашлепал грязью
Прохожих, и дома, и прочий вздор…
А мертвеца – к другому безобразью
Скрежещущий несет таксомотор.
В зал многолюдный и многоколонный
Спешит мертвец. На нем – изящный фрак.
Его дарят улыбкой благосклонной
Хозяйка – дура и супруг – дурак.
Он изнемог от дня чиновной скуки,
Но лязг костей музы́кой заглушон…
Он крепко жмет приятельские руки –
Живым, живым казаться должен он!
Лишь у колонны встретится очами
С подругою – она, как он, мертва.
За их условно-светскими речами
Ты слышишь настоящие слова:
«Усталый друг, мне странно в этом зале». –
«Усталый друг, могила холодна». –
«Уж полночь». – «Да, но вы не приглашали
На вальс NN. Она в вас влюблена…»
А там – NN уж ищет взором страстным
Его, его – с волнением в крови…
В её лице, девически прекрасном,
Бессмысленный восторг живой любви…
Он шепчет ей незначащие речи,
Пленительные для живых слова,
И смотрит он, как розовеют плечи,
Как на плечо склонилась голова…
И острый яд привычно-светской злости
С нездешней злостью расточает он…
«Как он умён! Как он в меня влюблён!»
В её ушах – нездешний, странный звон:
То кости лязгают о кости.
И вот собирается консилиум. Но он бесполезен.
Ничего не помогает. Блоку все хуже. Как обычно тут делается много бессмысленного: Горький хлопочет о санатории для Блока. Но какой санаторий, Блок уже при смерти. Он даже уже не хочет есть: отказывается.
«Все предпринимавшиеся меры лечебного характера не достигали цели, а в последнее время больной стал отказываться от приема лекарств, терял аппетит, быстро худел, заметно таял и угасал и при всё нарастающих явлениях сердечной слабости тихо скончался».
В 10 часов 30 минут 7 августа 1921 года Блока не стало.
Если поискать умозаключения современных врачей, которые они делали по тем старым записям, то скорее всего это был септический эндокардит, медленно подкрадывающийся недуг, который сперва маскируется под некоторые другие болезни, тот же невроз или лихорадку. Читаю тут: «До открытия антибиотиков прогрессирующий эндокардит приводил к смерти практически всегда».
Бром тут не помощник, мышьяк тем более.
Дальше читаю: «Эндокардит, вероятнее всего, был вызван хроническим тонзиллитом – если бы операцию провели бы и провели бы вовремя, шанс бы был». Господи, то есть получается Блок умер от запущенной ангины?
...Но вернемся к тому, с чего все начиналось, к стихотворению Гумилева, из которого я помню – как облако, как образ – только две строчки из одной строфы.
А стихотворение ведь не маленькое:
Я верил, я думал, и свет мне блеснул наконец;
Создав, навсегда уступил меня року Создатель;
Я продан! Я больше не Божий! Ушёл продавец,
И с явной насмешкой глядит на меня покупатель.
Летящей горою за мною несётся Вчера,
А Завтра меня впереди ожидает, как бездна,
Иду… но когда-нибудь в Бездну сорвётся Гора.
Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна.
И если я волей себе покоряю людей,
И если слетает ко мне по ночам вдохновенье,
И если я ведаю тайны – поэт, чародей,
Властитель вселенной – тем будет страшнее паденье.
И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
Оно – колокольчик фарфоровый в жёлтом Китае
На пагоде пёстрой… висит и приветно звенит,
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.
А тихая девушка в платье из красных шелков,
Где золотом вышиты осы, цветы и драконы,
С поджатыми ножками смотрит без мыслей и снов,
Внимательно слушая лёгкие, лёгкие звоны.
Одна девушка уже пела, правда, в другом платье, и пела в церковной хоре. Она разбудила своим голосом ребенка, не обычного, как будто небесного, который плакал и плакал о том, что никто не вернется, никто не придет назад. Даже Блок.