Дмитрий Воденников
Не мог долго ночью заснуть, встал, выпил таблетку, лёг в ожидании, когда таблетка начнёт действовать, открыл на телефоне ФБ. А там из ленты мертвецы полезли. Филин ухает. Рожи перекошенные.
Закрыл.
Утром проснулся, открыл ФБ – опять лютики-цветочки.
Два мира есть у человека.
Жизнь – большой оркестр. Одни лютни лгут, другие струнные струят. Темы и люди перемигиваются, на сцене свершается балет – сакральное действие.
Борис Пастернак в «Высокой болезни» написал:
Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
Здесь места нет стыду.
У Всеволода Зельченко, питерского поэта, преподавателя-латиниста, есть замечательный парафраз:
Мы были музыкой в аду,
Мы были курицей на льду,
Я всё сказал, и я пойду,
Здесь места нет стыду,
Здесь страх и трепет на кону –
И к этой мысли я примкну,
И никого не прокляну
В уплату горбуну.
Я люблю такие переклички. Я вообще люблю переклички.
Иногда я коллекционирую звуки.
У меня однажды было такое: лет одиннадцать тому назад, в другой жизни, с близким человеком рядом, я слышал, как под парижскими окнами идёт трубач. Прошло несколько лет – и опять же в другой жизни (они так быстро меняются) – на выступлении в Воронеже, в гостинице, я услышал, как под окном пиликала воронежская скрипка. А ещё через два года – в Москве, дома – услышал целый оркестрик. Откуда шёл звук – было непонятно. Причём оркестр играл странно, как будто репетировал: проиграет три «квадрата» и смолкнет. Потом опять. Кто-то готовится к выступлению, подумал я. Но кто?
Под окнами у меня больничный сад – там вряд ли. Налево – морг. Ещё маловероятней. Направо – школа. Это может быть. Но почему так громко? Они же в классе должны репетировать, а тут звук как по открытому воздуху.
На следующий день возвращался с другой стороны улицы мимо школы, увидел через забор – урок физкультуры: мальчики трагически подтягиваются, девочки прыгают в длину. Рядом стоит молодой учитель танцев (пардон, физкультуры), даёт сигнал к упражнениям, включает магнитофон, старшеклассники начинают прыгать и подтягиваться. Он стоит и отбивает ногой такт.
Вот и опять Зельченко выплыл.
ХОДАСЕВИЧ В ВЕНЕЦИИ
Это флейты? Я выбрал одну.
Уходите. Оставьте хористок.
Matka Boska, как ранит луну
Этот ангел, чугунный подросток,
Как течёт и дробится на семь
Отражение камня на камне!
Будем квиты, Симсим –
Тарабарская честь велика мне.
Обернись, я хочу, какова,
Увидать – в этом платье, в оплетье
Огуречном, пока жернова
Перемелют нам кофе на третье,
Узнаю тебя, звоном щита
Распугав тараканье блаженство –
Но таится тщета
В соразмерности каждого жеста,
Вдалеке, в полумраке по грудь,
В электричке калека с баяном
(Я тебя не встревожу ничуть -
Ни филиппикой, ни покаянным
Шепотком), в сочетанье церквей,
В содержимом разжатой ладони,
В каждой ноте твоей
Вырожденьем напетой латыни;
Я с закушенной кану губой,
Но разучат охальник и шкодник,
Бормотун, бонвиван, зверобой,
На парнасском пиру второгодник
Этих вод натяженье и ржу,
Эту прихоть лепечущих парок –
Как я после скажу,
Суперприз, небывалый подарок.
Вот и он, этот небывалый подарок, этот суперприз: открылась дверь – и там что-то странное, манящее. Твоё прежнее: то ли отрочество, то ли юность, то ли на баяне кто-то играет. Но ты идешь мимо забора, замелькали вертикальные перекладины – всё смыло, исчезло: чужое детство и юность не интересны. Магнитофон опять выключили.
Или вдруг зайдёшь в заштатную парикмахерскую у метро (до сих пор это помню, хотя было уже четыре года назад): она вся в розовом, крошечная. Там всего два мастера: один восточный парень, другой русский. Меня стал стричь восточный.
Из динамиков радио звучит какая-то песенная муть.
Стали говорить о ней, попутно перешли просто к музыке. Он спрашивает: – А вы что в наушниках слушаете, когда идёте?
– Вивальди, – вру я, потому что слушаю Арбенину.
– А я равнодушен к Вивальди, – говорит. – Я люблю Генделя. Его оратории. Ораторию Самсона. Молитва Dignare.
Я, честно говоря, опешил.
– А вы что заканчивали? – спрашиваю.
– Я оперный певец. Драматический тенор. Я пою в двух театрах. Станиславского и...
Название второго я не запомнил. Потому что мне хватило Генделя. Оратории Самсона.
Я даже взял телефон, чтоб записать названия. А насчет «молитвы Dignare» я вообще сперва ошибся. Думал, героиня такая – Дигнара и она молится.
Теперь вот живу с этим воспоминанием.
* * *
Как там бишь этот месяц по-нашему: почки, листочки...
Погляди из окна – не узнаешь ни судна, ни кормчих:
Подполковники возле оврага затеяли прятки,
Восьмиклассники ловят дриаду; она не дается.
Бог мой, все эти пестики, венчики, птенчики, птички!
В зеркалах беспорядок, в дубравах невнятные речи...
Получилось, как будто обрыдшую всем киноленту
Запустили назад – для потехи и нравоученья:
Унесенные ветром картузы находят владельцев,
И вчерашний покойник гарцует на белой кобыле,
И Муму из воды – только брызги столбом! – вылетает
Прямо в руки плечистому дворнику. Счастливы оба.
(Всеволод Зельченко)
Пусть будут счастливы оба. Пусть будут счастливы все. Вообще надо научиться быть благодарными. Какие иногда лютни звучат, какие счастливые билеты вытягиваются, какие люди нас любили.
И только Лев Толстой недоволен. Не будь как Лев Толстой. Научись не привередничать.
«Почти всякий раз при встрече с новым человеком я испытываю тяжелое чувство разочарования. Воображаю себе его таким, каков я, и изучаю его, прикидывая на эту мерку. Раз навсегда надо привыкнуть к мысли, что я исключение, что или я обогнал свой век, или – одна из тех несообразных неуживчивых натур, которые никогда не бывают довольны. Нужно взять другую мерку (ниже моей) и на неё мерять людей. Я реже буду ошибаться». (Из дневника.)
Всё-таки удивительное у нас самомнение. Считаем людей приложением к себе, меряем их какой-то якобы высокой своей меркой.
Лев Николаевич! Вам просто не встречался парикмахер, который разбирается в Генделе лучше, чем вы. Вот от этого и все ваши проблемы. А мне – встречался.
Даже сны – лучшие сны – другие люди видят, как будто бы за тебя. И тебе просто надо их в свой текст перетащить.
«Однажды я проходил во сне очень странное собеседование, – рассказывает в своём блоге мой добрый знакомый. – Не знаю, почему собеседование, но примерно такой смысл был у всего происходящего, как теперь кажется. Я проснулся на синей земле. Сидя на корточках, брал её руками, как узбеки плов, и ел. Она не имела ни вкуса, ни запаха, в ней не хрустело ни единой песчинки. В общем, по всем признакам было ясно, что эта земля самая лучшая, национальное богатство, как бы у нас сказали, и, конечно, она была свежая, влажная и сочная, как жирный бисквит.
Я совершенно не был голоден, однако и ничего, кроме земли, которую зачем-то надо было есть, больше не видел. Это было так же естественно, как будто делалось ещё вчера».
(Там было ещё продолжение, встреча, странная и немного страшная, но мы остановимся только на этой синей земле.)
«В этот день я проснулся счастливейшим человеком, как будто всё для меня было уже ясно и решено. Но что ясно? Что решено? Не понятно. Это ощущение я очень хорошо помню, потому что до сих пор ничего подобного не испытывал. В груди всё ходило, топало, приплясывая, и пело».
Господи, как же хорошо. Я тоже хочу увидеть во сне эту синюю землю. Я тоже хочу ее есть. Я тоже хочу топать и приплясывать. Я тоже хочу пройти собеседование.
Но тут звенит будильник, и синюю землю, так и не приснившуюся мне, смывает.
Будильник приручает нас к выверту и удару. Это не я придумал, это Кундера в своем «Вальсе на прощание» (название-то какое) сказал: «Что должно происходить с людьми, которые вседневно с помощью будильника получают небольшой электрический шок! Они изо дня в день привыкают к насилию и изо дня в день отучаются от наслаждения. Поверьте мне, характер людей формируют их утра».
И ведь прав. Сколько раз нас будил этот дурной будильник жизни, выдёргивал от людей, которые нам показались любимыми. Не из сна – наяву.
Недавно я уже писал про будильник, в другом тексте, но, видимо, этот звук, который ты забыл поставить, и что-то важное проспал, или который, наоборот, тебя разбудил не вовремя, не оставляет меня в покое. Нас просто этим механическим звуком с детства слишком травмировали. Поэтому мы и забыли о наслаждении (пусть и в прошлом), и не можем простить до конца любимых, с которыми больше не вместе, называем их бывшими. Бывшими любимые не бывают. Либо мы их любили, а значит, и сейчас любим, либо нет.
И тут второй раз звонит будильник. И я окончательно просыпаюсь. Где я? Кто я? Я тут ничего не узнаю.
Dignáre, o Dómine,
die isto sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine, miserére nostri.
Fiat misericórdia tua,
Dómine, super nos,
quemádmodum sperávimus in te.
...В общем, я коллекционирую звуки. Оркестрик в саду, трубач в Париже, пианино, почему-то только раз игравшее с верхнего этажа, пиликанье будильника в айфоне, прервавшее мой лучший сон. Речь парикмахера, который поёт в общем хоре в оперном театре. (Надеюсь, всё у него с его пением сложилось хорошо, и он уволился из розового салона.)
Я люблю такие переклички. Я вообще люблю переклички. Синяя земля. Гендель. Наше удачное собеседование. Примирившийся с несовершенством людей Лев Николаевич. Молитва Dignare, которую обычно поют женскими голосами, но которая изначально была создана для высокого баса. Вечный парафраз.
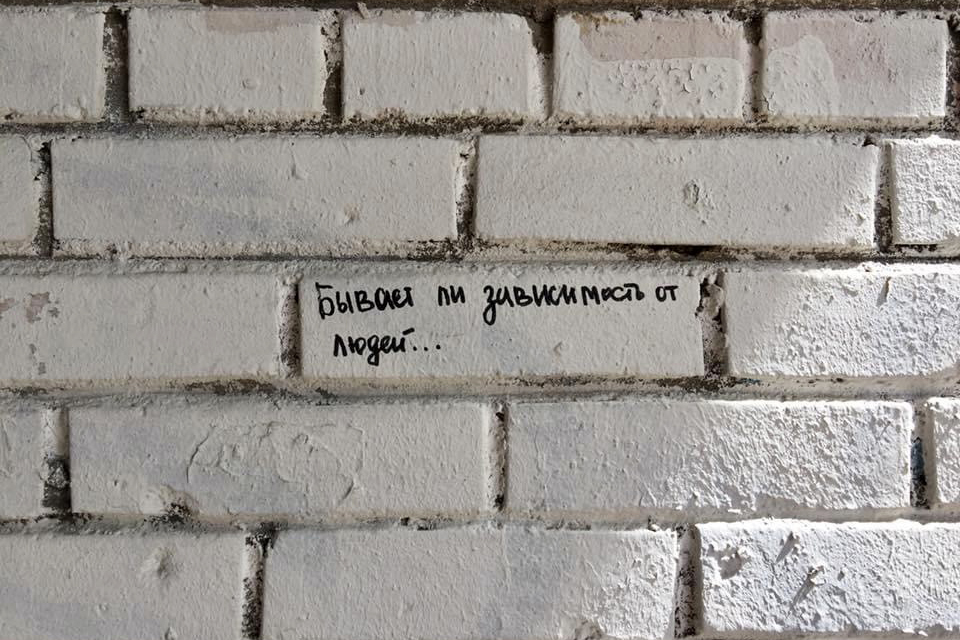
2021-06-05 10:00
Поэзия
