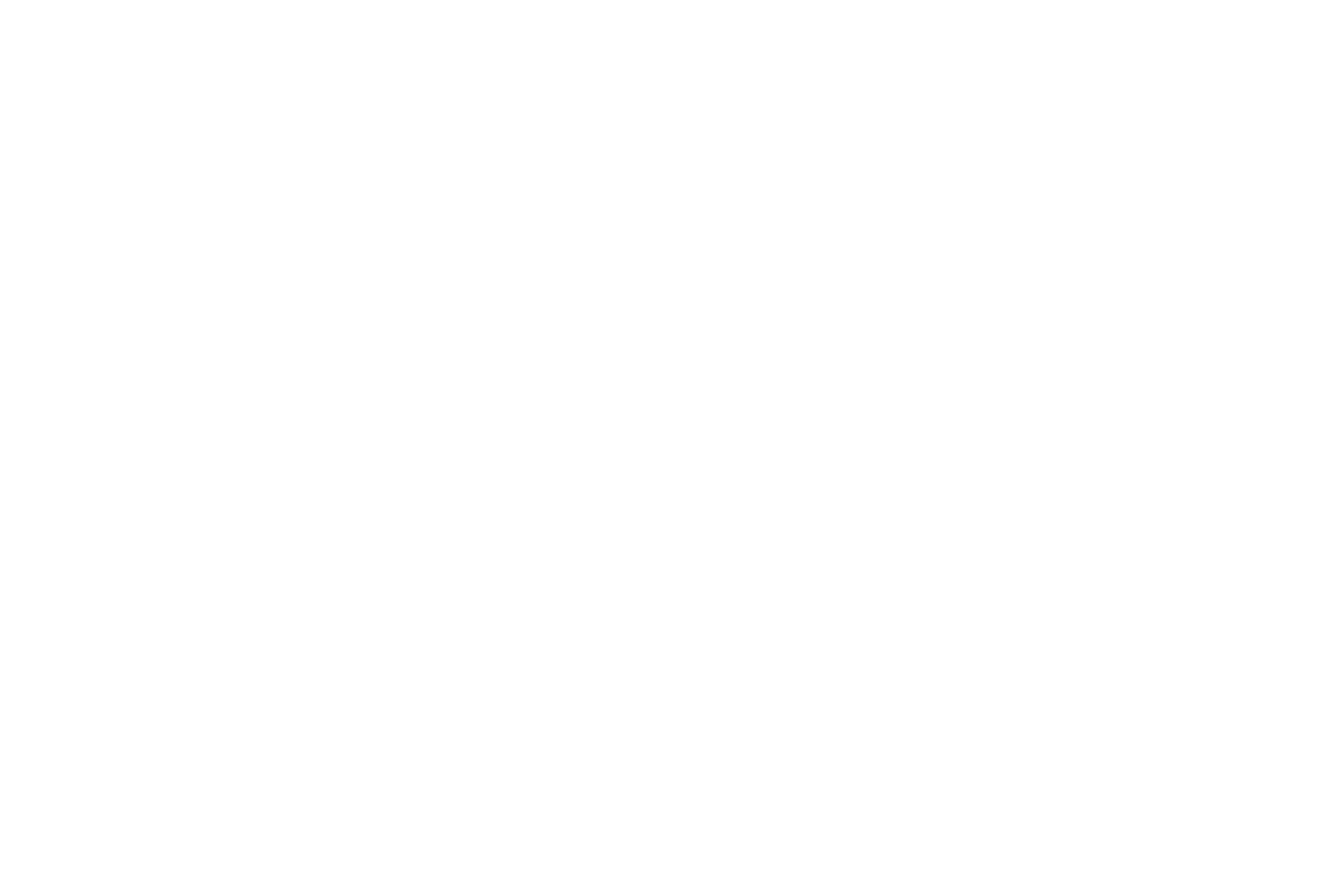
Юлия Мамочева
Интервью: Иван Купреянов
У нас в гостях Юлия Мамочева, замечательный поэт, лауреат Бунинской премии, автор восьми книг стихотворений и четырех спектаклей. Здравствуйте, Юля!
Привет!
Как замечательно, когда поэт находит свое признание у зрителя, и вот ты его явно нашла – ты популярный поэт. Расскажи, что такое успех для поэта, как к нему прийти?
Во-первых, я считаю, что успех для поэта как деятеля культуры заключается в честности. Это такая двойная работа – и поэта, и его публики. Грубо говоря, поэт создает продукт, который публике нравится, и публика откликается любовью и теплом. Соответственно, чтобы найти свою публику, автор должен быть честным сам с собой в первую очередь. Про себя могу сказать, что я начала писать в четыре года, и естественно тогда не думала ни о какой монетизации своего творчества.
А как же мороженое за стих?
Нет, такого не было (смеется). Оно шло и шло само, в 14 лет я начала выступать, в 16 вышла моя первая книга, люди делились друг с другом информацией обо мне, и таким образом аудитория прирастала.
Твоя аудитория прирастала за счет интереса к твоим темам и тому, как ты освещаешь их, но не за счет каких-то специальных тем, которые ты делаешь, может быть, в угоду этой аудитории?
Честно говоря, в угоду я писать не умею, потому что пишу только о том, что лично меня волнует, а в конъюнктуру, как сейчас модно говорить, я не умею играть. Так уж я устроена, что могу написать только то, что реально к сердцу близко. А что-то выдумать из головы – это сразу будет видно и фальшиво. Я фальшь ненавижу ни в музыке, ни в поэзии. Естественным путем должно получаться: автор пишет произведение, оно публике заходит и на него соответственно реагируют. И не надо считать публику дураками, мол, вот я сейчас так специально напишу, и вам понравится. Когда стараешься специально угодить, это никогда не нравится. Потому что поэзия и любое искусство это такая тонкая субстанция, которая воздействует напрямую на сердце, на душу и на все места аудитории.
А как же новостная повестка?
Многие авторы, как журналисты, заходят в новости, вычитывают актуальное и пишут по этому поводу стихи. Не знаю, хорошо или плохо, или это меня так наградили или наказали, но я так не умею. Даже вот вроде бы надо что-то написать про коронавирус, но я не могу сидеть и специально об этом писать. Обычно так: отвлеклась, бац, само пришло, и подкинули в сознание откуда-то сверху.
То есть путь Дмитрия Быкова, который назвал тебя «ужасом, лежащим на крыльях ночи», не твой?
Не знаю… Он тоже многогранный человек, и очень иронично меня осуждал как раз за то, что я пишу по любому календарному поводу, и мой источник невозможно заткнуть. Это из разряда, что человек за собой такого как будто не замечает – он же как раз сам разражается по любому поводу, кстати сказать, очень хорошими стихами. Наверно ему удается, не предавая музу, создавать модный контент качественного уровня. С другой стороны, он, конечно же, использует свои журналистские навыки, потому что я ни фига не журналист по призванию, мне это не близко. Писать новостные заметочки, когда я работала в «Московском Комсомольце», мне давалось очень тяжело, это совершенно не мое. У меня получается в прозе и публицистике косно и тяжело, не очень красиво, потому что писать надо по указке и потом твое слово правят – это лишнее, здесь сухонько, здесь надо наоборот добавить… Не заходит. Но я блог сейчас веду – тренирую дисциплину, стараюсь, во-первых, писать часто, во-вторых, совмещать музу и рутину.
Насколько поэзия может быть содержанием блога?
Я считаю, что может быть. Технически – ты выкладываешь стихотворение под фотографией. И когда фотография красивая – это нравится, если стихотворение хорошее – тоже нравится. Я вообще люблю синтез искусств, когда хорошая фотография или музыка дополняет крутое стихотворение. Например, Вера Полозкова ведет блог, и ее посты очень поэтичны, то есть она, как Набоков или Леонид Андреев, и в прозе очень поэтична. Мне кажется, мои посты не столь круты, как у нее, потому что мне они даются непросто. Да, я изучала литературу о том, как правильно вести блог, общалась на эту тему с Сашей Митрошиной, книгу ее читала («Продвижение личных блогов в Инстаграм» – примеч. ред.), то есть, много работала в этом направлении. Но стихи, мне кажется, очень выигрышная форма для блога, потому что неинтересно выкладывать отрывки из романа, а стихи – короткая форма, емко и цельно. За три–четыре минуты читатель узнает мысль автора, совершает целое путешествие в его подсознание. Лаконичная форма стихов подходит для нашего быстрого времени – пришел, увидел, прочитал, круто!
Какие стихи лучше всего заходят в интернет-формате?
О любви, конечно. Хотя у меня есть один текст, который непредсказуемо популярен, я сама не ожидала, что он вызовет такую бурную общественную реакцию – это текст «Бабушка», про Вторую мировую.
У меня раз в пару лет бывает такое озарение, я пишу про войну: моя бабушка прошла блокаду, я знакома с несколькими ветеранами, которые дошли до Берлина, и это лично для меня святая тема. Этот текст за несколько часов набрал 500 лайков. Прочитала его на видео, выложила запись, и за день было 250 тысяч просмотров. Значит, тема войны еще интересна, что не может не радовать.
Мнения <на текст> разделились: половина написала, что это круто и гениально, другие – что автора надо тапками закидать, а мне руки оторвать, потому что не должен современный человек писать про войну – это неприлично. Я человек, сомневающийся в себе, критически подхожу к тому, что делаю, и этот момент меня сильно беспокоил. Я тогда как раз навещала бабушку в пансионате, и познакомилась там с женщиной 98 лет, которая дошла до Берлина. Я прочитала ей этот стих, и она сказала, что он очень хороший, и я могу его читать где угодно. С тех пор я не стесняюсь… и это один из популярных моих стихов.
Заинтриговала! Теперь нельзя его не прочитать.
Бабушка говорит: уступите место, у меня тяжелые сумки!
Место, бабушка говорит, уступите, суки!
Всю войну, говорит, голодала, вот за тебя, нахала,
а потом еще сорок лет пахала.
Бабушка смотрит обиженно, а говорит – и подавно:
Я, Настена, по батюшке – Николавна,
девяти лет от роду отца на фронт провожала,
а потом, через год, воем выла, пластом лежала:
Анькин целый вернулся, Тамаркин – на деревянной ноге,
только мой под березою спит на Курской дуге.
Бабушкины глаза и морщины – как на акварельном рисунке.
Уступите, говорит, место – у меня тяжелые сумки,
в правой руке – страна до развала, в левой – после развала,
а что слезы бегут, так я их не рисовала.
Двух сыновей качала вот этими вот руками,
знай глядела, чтоб не росли дураками,
старший теперь – завотдела, у младшего – свое дело,
а глаза у обоих-то – Николая, деда.
Бабушка говорит: да что мне ваш бог, не боюсь я вашего бога.
…Я же
все будто сплю,
ухватившись за поручень сбоку.
И она не знает,
сколько весен еще по дороге встретит.
И не знает,
что это меня
убили тогда, в сорок третьем.
Да, сильный текст. Он имеет все признаки текста, который заходит. Какие для этого использованы технические приемы?..
Он заходит, потому что очень эмоциональный. Все-таки тему войны, как ни пытаются сейчас фальсифицировать историю, совершать подмену понятий, невозможно вытравить из сердец людей, потому что мы еще знаем живых ветеранов, в семьях есть родные, которые рассказывают настоящую правду о том, как воевали. И если ты помнишь рассказы своего деда, который на танке доехал до Берлина, то не сможешь эмоционально не среагировать на это – это в генетике нашей.
Но не все же стихи про войну одинаково популярны.
Мне кажется, здесь речь идет о происхождении <текста> больше, потому что этот текст я написала в формате инсайта. Лучший текст рождается именно так. Природу невозможно обмануть – люди всегда чувствуют фальшь.
А этот текст, как сейчас помню, я написала в метро по дороге на репетицию в театр. На меня нашло что-то, и я буквально за семь минут, за две станции метро, написала. Вышла и думаю: да ну, там и «суки», и слова какие-то не самые красивые, наверно грубо… Но выложила и пошла на репетицию. После репетиции захожу в паблик, а там уже полно лайков… И можно смеяться, но репосты сейчас – показатель общественного мнения, если люди пишут «мое сердце заболело от твоего текста», «я плачу», «я в мурашках…» – это показатель народного отношения. И что этот текст так легко вышел из меня, тоже играет какую-то роль, читатель чувствует это… Откуда поэзия берется в голове? Наверно откуда-то!..
Ты говоришь, что главное в поэзии – предельная честность. А как же формальная сторона вопроса? Люди учатся в Литинституте, достигают определенных высот в форме и технике – насколько это важно? Это важно не столько для создания хорошего произведения, но того, как его воспринимают? Как авторы воспринимают профессиональные сообщества – насколько важно учиться и достигать каких-то формальных стилистических высот?
У каждого свой путь. Я знаю тех, кому нравилось учиться в Литинституте, кого он многому научил. Но для себя я бы такой дороги не хотела, потому что в академизм в поэзии я не шибко верю. Я больше за самообразование, мне кажется, что если ты чувствуешь в силах образовать себя сам, то это будет более эффективно, чем какой-то дядька будет править твои тексты. По крайней мере, дядьки, которые правили мои тексты в 16 лет, мне не помогли!
Даже Дмитрий Быков?..
Ну, Дмитрий Быков мои тексты не правил. Ему не понравилось оформление моей книжки. Я ему ее подарила, он сказал: «Юль, стихи хорошие, книжка – плохая. Давай новую сделаем». Мне неприятно стало: я так гордилась этой книжкой. Я ему говорю: «Ну помогите новую издать, Дмитрий Львович, критиковать каждый горазд». Он мне: «Помочь? Да не вопрос! Присылай текст, я все сделаю». И он помог! Его друзья, питерское издательство, сделали мне книгу, она очень стильно выглядела, была без опечаток.
Дмитрий Львович за словом в карман не лезет и в долгий ящик не откладывает свои обещания. И он вот как раз либеральных взглядов. А классическая школа поэзии, когда тебе по каждой строке объясняют: здесь у вас метафора, а здесь что-то еще… это попахивает искусственностью. Когда берешь чудо – цветочек, бабочку, и начинаешь, как жабу, препарировать и разбирать на атомы. Это же чудо, оно на такое обижается! Это я не говорю о людях, которые пишут откровенно безграмотно, которым правят грамматические и стилистические ошибки, а о поэтах высокого уровня.
Запятые – это ладно, а если нелады с ритмом, перескакивает с ямба на хорей, все как-то расхлябанно. И такого ведь очень много. И такие выступают, и на Арбате их слушают другие люди.
Мы же не во времена Пушкина живем, когда ямбы, хореи, анапесты и прочие дактили. Я преподаю поэзию и литературу, и даже не стыжусь того, что сама не умею определять эти стихотворные размеры. Мне кажется, это та самая техническая примочка, один из инструментов препарирования жабы. Зачем тебе это знать: текст либо цепляет, либо нет. Если автор круто пишет, то его сбой в ритме может быть дополнительным инструментом создания магии. Та же Вера Полозкова: когда-то она писала подростковые девчачьи стихи, а теперь она действительно крупный мыслитель, ее «Письма из Гокарны» очень сильные. И она нарочно сбивает ритм, чтобы создать это ощущение «ах, аритмия!»
У нее это особый навык, который наработался годами. А я про тех авторов, которые не считают такое нужным и важным для себя, и у них получаются разболтанные и неаккуратные тексты. А Полозкова это специально делает…
Может, у них это скорее верлибры. И это зависит от каждого конкретного автора.
Моя подруга, прекрасный поэт Аня Сеничева, она, правда, не любит, когда ее называют поэтом и просит называть ее автором стихов, пишет очень хорошо, и она приверженка академической школы. Все время учится, участвует в конкурсах, ей нравится совершенствоваться и экспериментировать с ритмами и рифмами. Она показывала мне свои ранние тексты и после обучения – это небо и земля, она очень сильно поднялась, и из просто талантливого автора выросла в гениального, у нее есть очень хорошие находки. А кто-то как самородок, пишет от балды, и получается круто. И ты можешь <к тексту> здесь придраться, и тут тебя раздражает, но читаешь целый стих и – все, сработало!
Какие это авторы, например? Ну, кроме Есенина, а именно современников.
Башлачев, например.
А еще современнее? Из тех, кто нигде не учились, не считают это важным, но пишут и считают, что как вышло, так и хорошо?.. Самородки!
Наверно самообразованием каждый занимается, я же не знаю всех близко, лично. Может, кто-то не учился в «Лите», но столько перелопатил, как тот же Бродский. Он же даже школу не окончил, а сколько сам читал, и латынь учил, и классику, и эрудиция у него огромнейшая. И почему тогда такое образование считается ниже академического? Думаю, самородки в поэзии в принципе невозможны, потому что мы все живем в контексте языка. Это как если бы взять маугли, привезти его в Россию и сказать: пиши стих, и он, опа – написал. Живя в контексте языка, ты уже получаешь самообразование. Пожалуй, ты прав: самородков в поэзии не может быть. Какое-то базовое образование, как владение инструментом в музыке, должно быть в любом виде искусства. Если ты видишь в своей голове гениальные картины, но не умеешь держать кисть, как ты их создашь… Ведь я почему восхищаюсь Бродским как англоязычным автором, потому что на английском он очень круто писал – он хорошо знал язык. Я за то, что образовываться обязательно нужно, но больше самостоятельно – я не люблю, когда на мою творческую кухню залезают другие люди.
Чему ты сама учишь?
Я учу не бояться, не стесняться себя, раскрепощать свои мысли через обычные упражнения для развития креативности. Я не психолог и не лезу к человеку в душу, если он не хочет. Хотя, у меня есть рубрика, я ее называю «Письма Деду Морозу», и мне мои читатели – тысячи человек – пишут о своих проблемах. В директ <в Инстаграме>, в личные сообщения ВКонтакте. Пишут: «Спасибо, Юля, вы помогаете мне жить… я болею раком, и перед операцией ваши стихи вместо молитвы читала». Для меня это к высшей моей ответственности! Люди доверяют, потому что мои стихи им чем-то дороги. Поэт же выражает через стихи свои мысли и чувства, и если тебе нравятся его стихи, то и как человек он будет тебе близок по образу мышления, ведь через стихи ты его образ мыслей принимаешь. Этим я и стараюсь заниматься на своих занятиях.
У меня есть ученица: она очень хорошо читает стихи, но стесняется выкладывать. Ко дню рождения я провела акцию – #Мамочева_неуязвимость, сейчас собираю видео с прочтением другими моих стихов, чтобы после карантина сделать оффлайновый спектакль с элементами виртуальной реальности – как раз мои читатели, которые читают мои стихи на камеру, и будут этими «элементами». И вот эта женщина боится, но записала и прислала видео. Она прекрасно читает! И я ей говорю: ну выложите, не понравится другим – удалите, да и все.
Ты часто используешь в речи ненормативную лексику. Как ты к этому относишься в поэзии? Ведь есть поэты-матершинники, Емелин, например, который прекрасно это делает, и это работает как прием.
Я считаю, что это должно быть органично, а не от скудоумия. Если это от недостатка других способов выражения, то это плохо. Это же лексика, которая призвана выражать экспрессию, и если это чувство не выражается иначе, как «место уступите, суки», то это слово здесь уместно. Иногда вместо множества осмысленных фраз достаточно одного русского слова с миллионом значений. Совсем матерные слова я в поэзии не использую, в жизни под настроение всякое случается. А может, не было еще такого текста, где бы это было уместно.
То есть ты таким образом наследуешь традицию того же Бродского?
Я просто не ханжа ни в чем. Как Раневская наша говорила: жопа есть, а слова нет – как это так? Если какая-то часть жизни присутствует, зачем ее искусственно ампутировать. Ненормативная лексика – часть русской речи, ее придумали еще при татаро-монгольском иге. И Пушкин не стеснялся ее использовать, но не везде.
Да, есть такая теория. Но у поэзии как у любого искусства есть определенная функция: когда что-то появляется в поэзии, оно становится более легитимным и в жизни. Тебя не смущает в этом смысле повышение легитимации этих слов?
Должна быть уместность! Как в моем последнем тексте про медсестру, которая борется с коронавирусом, на ее глазах умирают люди, и ее близкий человек от этого умирает, и лежит в этих проводах, и она –
После смены снимает скафандр свой, как кольчугу.
Долго в зеркало смотрит на ссадины под глазами.
Сука, я же совсем не ною в твоей казарме.
Сука, если ты есть, сотвори мне чертово чудо.
То есть человек в ситуации, когда у него умирают люди, и он ничего не может сделать, он может и похлеще что-то скажет, и здесь было бы враньем передавать прямую речь такого человека через вылизанную формулировочку «господи, пусть все будут здоровы…» Я же пишу как чувствую и каким-то образом вхожу в состояние этого человека.
Ты часто так вживаешься в чей-то образ?
Как припрет.
У тебя много текстов от чьего-то имени. Это что-то вроде литературного актерства?
Это может как бред прозвучать, но я просто вижу. То самое шестое чувство, которое возникает в анахата чакре (сердечная чакра – примеч. ред.), и ты начинаешь одновременно видеть, слышать и чувствовать. Или я сижу в компании друзей, ничего не предвещало, и вдруг мне стало дико страшно, плохо, трясет меня. И ложишься потом спать, а через тебя прорывается тяжелый болезненный текст. Так было с текстом «Незабудки» про домашнее насилие. И ты понимаешь – это не про тебя, не про кого-то из твоих близких, это просто про кого-то… Потом такой текст находит своих адресатов. Так было про медсестру Свету. Мои близкие знают, как мне непросто было выложить этот текст: я два дня ходила с ним как с писаной торбой, читала всем, но стеснялась, чтобы не подумали что я спекулирую на чужой боли и наживаюсь на этой истории… Но мне говорят: ты выложи, не просто же так тебе этот текст пришел. Я выложила, и через два дня мне написала врач реанимации из Украины: я десятый раз перечитываю ваш текст, и он просто про меня. И она мне записала видео чтения этого текста – прямо у себя на работе, в этом костюме космонавта… И это для меня невероятно, до мурашек.
Если ты пишешь честно, если ты что-то поймал, то твой текст найдет адресата. И даже на концертах кто-то из толпы заплачет и подойдет потом с вопросом: откуда вы это про меня знаете?
Наверно такие высокоэмпатичные тексты очень хорошо подходят для спектаклей. Может быть, успех спектаклей с этим связан?
Да, наверно. Мне многие говорят, что мои тексты отражают чувства многих людей. Чувств же не так много: любовь, тоска, радость, восторг, счастье, а между ними – оттенки, полутона. И поэты как-то красиво и мастерски выражают то, что думают другие. Словами попадаешь в какие-то пазы́, и у слушателя возникает «вау»-эффект. Почему так популярна стала Полозкова? Потому что она писала для 18–20-летних девочек, у которых несчастная или счастливая любовь, радость внутренняя, вулкан страстей. Девочки узнавали себя, покупали книги и шли на концерты за этим ощущением сопричастности. Любовь – универсальное чувство, его хоть раз да все испытывали в жизни. И сложно придумать что-то, что бы не подошло – пожар внутри, или спокойное море, или цветок, прорастающий из сердца, или «если сердце взорвется, значит, оно граната». В какую-то из этих любовей попадаешь и – резонирует.
Привет!
Как замечательно, когда поэт находит свое признание у зрителя, и вот ты его явно нашла – ты популярный поэт. Расскажи, что такое успех для поэта, как к нему прийти?
Во-первых, я считаю, что успех для поэта как деятеля культуры заключается в честности. Это такая двойная работа – и поэта, и его публики. Грубо говоря, поэт создает продукт, который публике нравится, и публика откликается любовью и теплом. Соответственно, чтобы найти свою публику, автор должен быть честным сам с собой в первую очередь. Про себя могу сказать, что я начала писать в четыре года, и естественно тогда не думала ни о какой монетизации своего творчества.
А как же мороженое за стих?
Нет, такого не было (смеется). Оно шло и шло само, в 14 лет я начала выступать, в 16 вышла моя первая книга, люди делились друг с другом информацией обо мне, и таким образом аудитория прирастала.
Твоя аудитория прирастала за счет интереса к твоим темам и тому, как ты освещаешь их, но не за счет каких-то специальных тем, которые ты делаешь, может быть, в угоду этой аудитории?
Честно говоря, в угоду я писать не умею, потому что пишу только о том, что лично меня волнует, а в конъюнктуру, как сейчас модно говорить, я не умею играть. Так уж я устроена, что могу написать только то, что реально к сердцу близко. А что-то выдумать из головы – это сразу будет видно и фальшиво. Я фальшь ненавижу ни в музыке, ни в поэзии. Естественным путем должно получаться: автор пишет произведение, оно публике заходит и на него соответственно реагируют. И не надо считать публику дураками, мол, вот я сейчас так специально напишу, и вам понравится. Когда стараешься специально угодить, это никогда не нравится. Потому что поэзия и любое искусство это такая тонкая субстанция, которая воздействует напрямую на сердце, на душу и на все места аудитории.
А как же новостная повестка?
Многие авторы, как журналисты, заходят в новости, вычитывают актуальное и пишут по этому поводу стихи. Не знаю, хорошо или плохо, или это меня так наградили или наказали, но я так не умею. Даже вот вроде бы надо что-то написать про коронавирус, но я не могу сидеть и специально об этом писать. Обычно так: отвлеклась, бац, само пришло, и подкинули в сознание откуда-то сверху.
То есть путь Дмитрия Быкова, который назвал тебя «ужасом, лежащим на крыльях ночи», не твой?
Не знаю… Он тоже многогранный человек, и очень иронично меня осуждал как раз за то, что я пишу по любому календарному поводу, и мой источник невозможно заткнуть. Это из разряда, что человек за собой такого как будто не замечает – он же как раз сам разражается по любому поводу, кстати сказать, очень хорошими стихами. Наверно ему удается, не предавая музу, создавать модный контент качественного уровня. С другой стороны, он, конечно же, использует свои журналистские навыки, потому что я ни фига не журналист по призванию, мне это не близко. Писать новостные заметочки, когда я работала в «Московском Комсомольце», мне давалось очень тяжело, это совершенно не мое. У меня получается в прозе и публицистике косно и тяжело, не очень красиво, потому что писать надо по указке и потом твое слово правят – это лишнее, здесь сухонько, здесь надо наоборот добавить… Не заходит. Но я блог сейчас веду – тренирую дисциплину, стараюсь, во-первых, писать часто, во-вторых, совмещать музу и рутину.
Насколько поэзия может быть содержанием блога?
Я считаю, что может быть. Технически – ты выкладываешь стихотворение под фотографией. И когда фотография красивая – это нравится, если стихотворение хорошее – тоже нравится. Я вообще люблю синтез искусств, когда хорошая фотография или музыка дополняет крутое стихотворение. Например, Вера Полозкова ведет блог, и ее посты очень поэтичны, то есть она, как Набоков или Леонид Андреев, и в прозе очень поэтична. Мне кажется, мои посты не столь круты, как у нее, потому что мне они даются непросто. Да, я изучала литературу о том, как правильно вести блог, общалась на эту тему с Сашей Митрошиной, книгу ее читала («Продвижение личных блогов в Инстаграм» – примеч. ред.), то есть, много работала в этом направлении. Но стихи, мне кажется, очень выигрышная форма для блога, потому что неинтересно выкладывать отрывки из романа, а стихи – короткая форма, емко и цельно. За три–четыре минуты читатель узнает мысль автора, совершает целое путешествие в его подсознание. Лаконичная форма стихов подходит для нашего быстрого времени – пришел, увидел, прочитал, круто!
Какие стихи лучше всего заходят в интернет-формате?
О любви, конечно. Хотя у меня есть один текст, который непредсказуемо популярен, я сама не ожидала, что он вызовет такую бурную общественную реакцию – это текст «Бабушка», про Вторую мировую.
У меня раз в пару лет бывает такое озарение, я пишу про войну: моя бабушка прошла блокаду, я знакома с несколькими ветеранами, которые дошли до Берлина, и это лично для меня святая тема. Этот текст за несколько часов набрал 500 лайков. Прочитала его на видео, выложила запись, и за день было 250 тысяч просмотров. Значит, тема войны еще интересна, что не может не радовать.
Мнения <на текст> разделились: половина написала, что это круто и гениально, другие – что автора надо тапками закидать, а мне руки оторвать, потому что не должен современный человек писать про войну – это неприлично. Я человек, сомневающийся в себе, критически подхожу к тому, что делаю, и этот момент меня сильно беспокоил. Я тогда как раз навещала бабушку в пансионате, и познакомилась там с женщиной 98 лет, которая дошла до Берлина. Я прочитала ей этот стих, и она сказала, что он очень хороший, и я могу его читать где угодно. С тех пор я не стесняюсь… и это один из популярных моих стихов.
Заинтриговала! Теперь нельзя его не прочитать.
Бабушка говорит: уступите место, у меня тяжелые сумки!
Место, бабушка говорит, уступите, суки!
Всю войну, говорит, голодала, вот за тебя, нахала,
а потом еще сорок лет пахала.
Бабушка смотрит обиженно, а говорит – и подавно:
Я, Настена, по батюшке – Николавна,
девяти лет от роду отца на фронт провожала,
а потом, через год, воем выла, пластом лежала:
Анькин целый вернулся, Тамаркин – на деревянной ноге,
только мой под березою спит на Курской дуге.
Бабушкины глаза и морщины – как на акварельном рисунке.
Уступите, говорит, место – у меня тяжелые сумки,
в правой руке – страна до развала, в левой – после развала,
а что слезы бегут, так я их не рисовала.
Двух сыновей качала вот этими вот руками,
знай глядела, чтоб не росли дураками,
старший теперь – завотдела, у младшего – свое дело,
а глаза у обоих-то – Николая, деда.
Бабушка говорит: да что мне ваш бог, не боюсь я вашего бога.
…Я же
все будто сплю,
ухватившись за поручень сбоку.
И она не знает,
сколько весен еще по дороге встретит.
И не знает,
что это меня
убили тогда, в сорок третьем.
Да, сильный текст. Он имеет все признаки текста, который заходит. Какие для этого использованы технические приемы?..
Он заходит, потому что очень эмоциональный. Все-таки тему войны, как ни пытаются сейчас фальсифицировать историю, совершать подмену понятий, невозможно вытравить из сердец людей, потому что мы еще знаем живых ветеранов, в семьях есть родные, которые рассказывают настоящую правду о том, как воевали. И если ты помнишь рассказы своего деда, который на танке доехал до Берлина, то не сможешь эмоционально не среагировать на это – это в генетике нашей.
Но не все же стихи про войну одинаково популярны.
Мне кажется, здесь речь идет о происхождении <текста> больше, потому что этот текст я написала в формате инсайта. Лучший текст рождается именно так. Природу невозможно обмануть – люди всегда чувствуют фальшь.
А этот текст, как сейчас помню, я написала в метро по дороге на репетицию в театр. На меня нашло что-то, и я буквально за семь минут, за две станции метро, написала. Вышла и думаю: да ну, там и «суки», и слова какие-то не самые красивые, наверно грубо… Но выложила и пошла на репетицию. После репетиции захожу в паблик, а там уже полно лайков… И можно смеяться, но репосты сейчас – показатель общественного мнения, если люди пишут «мое сердце заболело от твоего текста», «я плачу», «я в мурашках…» – это показатель народного отношения. И что этот текст так легко вышел из меня, тоже играет какую-то роль, читатель чувствует это… Откуда поэзия берется в голове? Наверно откуда-то!..
Ты говоришь, что главное в поэзии – предельная честность. А как же формальная сторона вопроса? Люди учатся в Литинституте, достигают определенных высот в форме и технике – насколько это важно? Это важно не столько для создания хорошего произведения, но того, как его воспринимают? Как авторы воспринимают профессиональные сообщества – насколько важно учиться и достигать каких-то формальных стилистических высот?
У каждого свой путь. Я знаю тех, кому нравилось учиться в Литинституте, кого он многому научил. Но для себя я бы такой дороги не хотела, потому что в академизм в поэзии я не шибко верю. Я больше за самообразование, мне кажется, что если ты чувствуешь в силах образовать себя сам, то это будет более эффективно, чем какой-то дядька будет править твои тексты. По крайней мере, дядьки, которые правили мои тексты в 16 лет, мне не помогли!
Даже Дмитрий Быков?..
Ну, Дмитрий Быков мои тексты не правил. Ему не понравилось оформление моей книжки. Я ему ее подарила, он сказал: «Юль, стихи хорошие, книжка – плохая. Давай новую сделаем». Мне неприятно стало: я так гордилась этой книжкой. Я ему говорю: «Ну помогите новую издать, Дмитрий Львович, критиковать каждый горазд». Он мне: «Помочь? Да не вопрос! Присылай текст, я все сделаю». И он помог! Его друзья, питерское издательство, сделали мне книгу, она очень стильно выглядела, была без опечаток.
Дмитрий Львович за словом в карман не лезет и в долгий ящик не откладывает свои обещания. И он вот как раз либеральных взглядов. А классическая школа поэзии, когда тебе по каждой строке объясняют: здесь у вас метафора, а здесь что-то еще… это попахивает искусственностью. Когда берешь чудо – цветочек, бабочку, и начинаешь, как жабу, препарировать и разбирать на атомы. Это же чудо, оно на такое обижается! Это я не говорю о людях, которые пишут откровенно безграмотно, которым правят грамматические и стилистические ошибки, а о поэтах высокого уровня.
Запятые – это ладно, а если нелады с ритмом, перескакивает с ямба на хорей, все как-то расхлябанно. И такого ведь очень много. И такие выступают, и на Арбате их слушают другие люди.
Мы же не во времена Пушкина живем, когда ямбы, хореи, анапесты и прочие дактили. Я преподаю поэзию и литературу, и даже не стыжусь того, что сама не умею определять эти стихотворные размеры. Мне кажется, это та самая техническая примочка, один из инструментов препарирования жабы. Зачем тебе это знать: текст либо цепляет, либо нет. Если автор круто пишет, то его сбой в ритме может быть дополнительным инструментом создания магии. Та же Вера Полозкова: когда-то она писала подростковые девчачьи стихи, а теперь она действительно крупный мыслитель, ее «Письма из Гокарны» очень сильные. И она нарочно сбивает ритм, чтобы создать это ощущение «ах, аритмия!»
У нее это особый навык, который наработался годами. А я про тех авторов, которые не считают такое нужным и важным для себя, и у них получаются разболтанные и неаккуратные тексты. А Полозкова это специально делает…
Может, у них это скорее верлибры. И это зависит от каждого конкретного автора.
Моя подруга, прекрасный поэт Аня Сеничева, она, правда, не любит, когда ее называют поэтом и просит называть ее автором стихов, пишет очень хорошо, и она приверженка академической школы. Все время учится, участвует в конкурсах, ей нравится совершенствоваться и экспериментировать с ритмами и рифмами. Она показывала мне свои ранние тексты и после обучения – это небо и земля, она очень сильно поднялась, и из просто талантливого автора выросла в гениального, у нее есть очень хорошие находки. А кто-то как самородок, пишет от балды, и получается круто. И ты можешь <к тексту> здесь придраться, и тут тебя раздражает, но читаешь целый стих и – все, сработало!
Какие это авторы, например? Ну, кроме Есенина, а именно современников.
Башлачев, например.
А еще современнее? Из тех, кто нигде не учились, не считают это важным, но пишут и считают, что как вышло, так и хорошо?.. Самородки!
Наверно самообразованием каждый занимается, я же не знаю всех близко, лично. Может, кто-то не учился в «Лите», но столько перелопатил, как тот же Бродский. Он же даже школу не окончил, а сколько сам читал, и латынь учил, и классику, и эрудиция у него огромнейшая. И почему тогда такое образование считается ниже академического? Думаю, самородки в поэзии в принципе невозможны, потому что мы все живем в контексте языка. Это как если бы взять маугли, привезти его в Россию и сказать: пиши стих, и он, опа – написал. Живя в контексте языка, ты уже получаешь самообразование. Пожалуй, ты прав: самородков в поэзии не может быть. Какое-то базовое образование, как владение инструментом в музыке, должно быть в любом виде искусства. Если ты видишь в своей голове гениальные картины, но не умеешь держать кисть, как ты их создашь… Ведь я почему восхищаюсь Бродским как англоязычным автором, потому что на английском он очень круто писал – он хорошо знал язык. Я за то, что образовываться обязательно нужно, но больше самостоятельно – я не люблю, когда на мою творческую кухню залезают другие люди.
Чему ты сама учишь?
Я учу не бояться, не стесняться себя, раскрепощать свои мысли через обычные упражнения для развития креативности. Я не психолог и не лезу к человеку в душу, если он не хочет. Хотя, у меня есть рубрика, я ее называю «Письма Деду Морозу», и мне мои читатели – тысячи человек – пишут о своих проблемах. В директ <в Инстаграме>, в личные сообщения ВКонтакте. Пишут: «Спасибо, Юля, вы помогаете мне жить… я болею раком, и перед операцией ваши стихи вместо молитвы читала». Для меня это к высшей моей ответственности! Люди доверяют, потому что мои стихи им чем-то дороги. Поэт же выражает через стихи свои мысли и чувства, и если тебе нравятся его стихи, то и как человек он будет тебе близок по образу мышления, ведь через стихи ты его образ мыслей принимаешь. Этим я и стараюсь заниматься на своих занятиях.
У меня есть ученица: она очень хорошо читает стихи, но стесняется выкладывать. Ко дню рождения я провела акцию – #Мамочева_неуязвимость, сейчас собираю видео с прочтением другими моих стихов, чтобы после карантина сделать оффлайновый спектакль с элементами виртуальной реальности – как раз мои читатели, которые читают мои стихи на камеру, и будут этими «элементами». И вот эта женщина боится, но записала и прислала видео. Она прекрасно читает! И я ей говорю: ну выложите, не понравится другим – удалите, да и все.
Ты часто используешь в речи ненормативную лексику. Как ты к этому относишься в поэзии? Ведь есть поэты-матершинники, Емелин, например, который прекрасно это делает, и это работает как прием.
Я считаю, что это должно быть органично, а не от скудоумия. Если это от недостатка других способов выражения, то это плохо. Это же лексика, которая призвана выражать экспрессию, и если это чувство не выражается иначе, как «место уступите, суки», то это слово здесь уместно. Иногда вместо множества осмысленных фраз достаточно одного русского слова с миллионом значений. Совсем матерные слова я в поэзии не использую, в жизни под настроение всякое случается. А может, не было еще такого текста, где бы это было уместно.
То есть ты таким образом наследуешь традицию того же Бродского?
Я просто не ханжа ни в чем. Как Раневская наша говорила: жопа есть, а слова нет – как это так? Если какая-то часть жизни присутствует, зачем ее искусственно ампутировать. Ненормативная лексика – часть русской речи, ее придумали еще при татаро-монгольском иге. И Пушкин не стеснялся ее использовать, но не везде.
Да, есть такая теория. Но у поэзии как у любого искусства есть определенная функция: когда что-то появляется в поэзии, оно становится более легитимным и в жизни. Тебя не смущает в этом смысле повышение легитимации этих слов?
Должна быть уместность! Как в моем последнем тексте про медсестру, которая борется с коронавирусом, на ее глазах умирают люди, и ее близкий человек от этого умирает, и лежит в этих проводах, и она –
После смены снимает скафандр свой, как кольчугу.
Долго в зеркало смотрит на ссадины под глазами.
Сука, я же совсем не ною в твоей казарме.
Сука, если ты есть, сотвори мне чертово чудо.
То есть человек в ситуации, когда у него умирают люди, и он ничего не может сделать, он может и похлеще что-то скажет, и здесь было бы враньем передавать прямую речь такого человека через вылизанную формулировочку «господи, пусть все будут здоровы…» Я же пишу как чувствую и каким-то образом вхожу в состояние этого человека.
Ты часто так вживаешься в чей-то образ?
Как припрет.
У тебя много текстов от чьего-то имени. Это что-то вроде литературного актерства?
Это может как бред прозвучать, но я просто вижу. То самое шестое чувство, которое возникает в анахата чакре (сердечная чакра – примеч. ред.), и ты начинаешь одновременно видеть, слышать и чувствовать. Или я сижу в компании друзей, ничего не предвещало, и вдруг мне стало дико страшно, плохо, трясет меня. И ложишься потом спать, а через тебя прорывается тяжелый болезненный текст. Так было с текстом «Незабудки» про домашнее насилие. И ты понимаешь – это не про тебя, не про кого-то из твоих близких, это просто про кого-то… Потом такой текст находит своих адресатов. Так было про медсестру Свету. Мои близкие знают, как мне непросто было выложить этот текст: я два дня ходила с ним как с писаной торбой, читала всем, но стеснялась, чтобы не подумали что я спекулирую на чужой боли и наживаюсь на этой истории… Но мне говорят: ты выложи, не просто же так тебе этот текст пришел. Я выложила, и через два дня мне написала врач реанимации из Украины: я десятый раз перечитываю ваш текст, и он просто про меня. И она мне записала видео чтения этого текста – прямо у себя на работе, в этом костюме космонавта… И это для меня невероятно, до мурашек.
Если ты пишешь честно, если ты что-то поймал, то твой текст найдет адресата. И даже на концертах кто-то из толпы заплачет и подойдет потом с вопросом: откуда вы это про меня знаете?
Наверно такие высокоэмпатичные тексты очень хорошо подходят для спектаклей. Может быть, успех спектаклей с этим связан?
Да, наверно. Мне многие говорят, что мои тексты отражают чувства многих людей. Чувств же не так много: любовь, тоска, радость, восторг, счастье, а между ними – оттенки, полутона. И поэты как-то красиво и мастерски выражают то, что думают другие. Словами попадаешь в какие-то пазы́, и у слушателя возникает «вау»-эффект. Почему так популярна стала Полозкова? Потому что она писала для 18–20-летних девочек, у которых несчастная или счастливая любовь, радость внутренняя, вулкан страстей. Девочки узнавали себя, покупали книги и шли на концерты за этим ощущением сопричастности. Любовь – универсальное чувство, его хоть раз да все испытывали в жизни. И сложно придумать что-то, что бы не подошло – пожар внутри, или спокойное море, или цветок, прорастающий из сердца, или «если сердце взорвется, значит, оно граната». В какую-то из этих любовей попадаешь и – резонирует.
Твои стихи написаны скорее широкими крупными мазками, как у Маяковского, нежели оттенками импрессионистов. Ты в поэзии за грубое высказывание, как «сердце – граната», или за полутона?
Наверное, за яркость.
Ты хочешь и дальше так писать или видишь свое развитие по-другому?
Личность поэта сильно спаяна с его творчеством. Я и человек такой – грубый, громкий, яркий. Кто-то меня любит, кто-то терпеть не может, если я люблю, то я все для этого человека сделаю, последнюю рубашку сниму. А если не люблю – то сразу, и могу на три буквы отправить сразу. Я прямой человек, и в поэзии мою прямоту видно. Это не юношеский максимализм, а черта характера. У меня папа такой же – вспыльчивый очень, и я тоже. Пытаемся сублимировать – в зал ходим, чтобы скидывать ненужную агрессию, энергетику темную. Как это скроешь?! У меня есть под настроение нежные стихи, когда я чувствую нежность, то выражаю.
Я больше не про нежность, а про – сложность. Нежность тоже может быть довольно грубой.
Сложно я писала в 17–18 лет, когда была внутренняя потребность к препарированию атомов. Я пишу с четырех лет, как поперло, так и не останавливается. В 16 я выпустила первую книжку, переехала в Москву из Питера, поступила в МГИМО. Мне нравилось играть на созвучиях, аллитерациях. Мне даже стыдно сейчас перечитывать тексты того периода, потому что там за игрой слов иногда сложно разглядеть смысл, и образ тяжеловесный, потому что я играла на звукописи. Искала себя, увлеченно читала авангардистов и старалась писать сложно. Потом эта волна схлынула, и постепенно прихожу к более простому, не извращаюсь со звуками, например.
То есть делаешь то, что срабатывает на публику, на читателя?
Я стараюсь делать то, на что у меня срабатывает электричество в позвоночнике. То, что мне кайфово – я это и делаю. От моих ранних книг мне уже не очень кайфово. Для истории пусть останутся, но потомкам я бы их не хотела оставлять, даже дома их нет. На один сайт даже написала, чтобы они удалили одну мою книгу.
Это же опасный путь! Не боишься, что через десять лет будешь так же относиться к своим сегодняшним книгам?
Велика вероятность. Человек же развивается все время.
Ты так легко это отбрасываешь?
Мы публичные люди, и невозможно избавиться от своего прошлого. Либо ты стесняешься себя в прошлом, как это у многих происходит, и я не исключение: болезненно бывает перечитывать себя. Можно прятаться всю жизнь, удалять, а можно смириться: да, это часть моего прошлого, и я выросла из того, что было тогда. И может, сегодняшнюю книжку буду перечитывать через десять лет и зубами скрипеть.
Но какие-то тексты остаются навечно, даже если книжку ты не любишь. Какие свои тексты ты считаешь настолько важными и сильными, что они останутся?
Есть популярные вещи, которые останутся. Их сейчас если загуглить, выпадает миллион перепостов. Вот про коронавирус – не писалось, не писалось, а потом бабах и целая летопись коронавирусная вылезла. Текст, который сейчас прочту, наверно, останется – его уже называют чуть ли не манифестом нашего времени.
Это оценка критиков или общественности?
Общественности. Критическую заметку на него написал один украинский церковный деятель Яков Кротов. Он разразился гневной отповедью, что я мало вижу чернухи и слишком идеализирую.
Читает:
И говорили что-то родители про крах мировой экономики,
и сидели все в одной комнате, и думала Даша: «Мы в домике!»
И Витька ругался: «Застряли, как в чертовом бункере,
свалил бы сто раз отсюда куда подальше».
А Даша учила буквы, и гречка на кухне булькала,
и было не очень спокойно, но радостно Даше.
Смотрела она, пока делала заданное на завтра,
как доллар зеленый растет до потолка динозавром,
как президент в телевизоре велит не ходить на улицу,
как занавеска танцует, как Витька за ноутом дуется.
Какие у мамы красивые волосы, какие у папы большие руки,
наконец-то можно налюбоваться на них, наглядеться.
И думала Даша, отдыхая от ежедневной разлуки,
что сейчас у нее неплохое, в сущности, детство
и что вообще лучший праздник – весь этот коронавирус.
И цвела в ее шестилетнем сердце неуязвимость.
Потому когда мама заплакала, что все это полный конец,
и когда папа ответил, что действительно – Апокалипсис,
Иначе такую весну бы в окне не показывали!»
Ведь и правда же, глупые взрослые, как это может быть ад,
если все расцветает и птицы над всем звенят,
если солнце повсюду, и свет его величав,
если мама и папа такие смешные в его лучах,
если даже Витька уже не сердится в его свете.
Если это весна.
Весной не бывает смерти.
Этот текст очень любит Любовь Толкалина, читает его периодически на выступлениях своих онлайновых, сейчас других не бывает (смеется).
Был онлайн-марафон поэтический в политехническом музее, и Люба там читала мой текст наряду с произведениями Федора Сваровского. Она с родителями своими самоизолировалась в деревне в Рязанской области, откуда она родом, и оттуда ведет прямые эфиры в том числе. И это было так эпично: она читает, идут технические сбои, все лицо в пикселях, а голос – этот чистый росток красоты – прорастает сквозь это техническое безобразие. Мне кажется, это очень символично, что люди из разных точек мира – кто в Нью-Йорке, кто во Франции, кто в деревне, кто в Москве или Питере, но мы все одновременно вместе.
Ты много написала за это время?
Текстов шесть, и для меня это много. Обычно я по одному хорошему стиху в месяц пишу. Лет в 18–19, бывало, писала через день: как попрет – и не можешь остановить этот поток, как «горшочек, не вари». По стиху в месяц – это хорошо, я фильтрую то, что приходит, чтобы было максимально качественно. А тут за два месяца – шесть хороших текстов. И они как раз меня спровоцировали сделать спектакль – там будет шесть поэтических блоков.
А как вообще сделать идеальный поэтический спектакль?
Это к режиссеру вопрос…
У тебя же моноспектакль!.. Ты их сама ставишь?
Сначала мне помогал мой друг, Макс Потемкин. Он актер, поэт, бывший танцор балета. Мы с ним вместе начинали работать в жанре интуитивного поэтического перфоманса в 2014 году. У нас был спектакль «Дуэт», делали в Булгаковском доме. Суть в чем: ты читаешь стих, и либо сам себе отвечаешь, либо другой тебе отвечает тоже стихом, который вспоминает, – по типу игры в ассоциации.
Это действительно ассоциации или по сценарию?
Последние выступления – по сценарию, а начинали мы именно с ассоциации. И в этом есть своя магия! Ведь ассоциация может быть разная: например, Макс читает свой текст про бабочку, и у меня есть текст про бабочку. И если у него –
Бабочка должна быть белой,
Чтобы глаз не отвести,
Ослепительное тело
Заметалось на пути.
И заканчивается оно: «…это в бабочку, как в щелку, чуть прищурясь, смотрит бог…» А мне приходит мой текст про Питер, который очень любил Андрей Дементьев:
О коммунальный ад в четыре комнаты!
Лежу в одной и вижу, разомлев,
Свой Питер, словно бабочка, приколотый
Иглой Адмиралтейскою – к земле.
И Максу приходят стихи про Питер уже, и <получается> такой пинг-понг.
А к чему это в итоге приходит? Заложена заранее какая-то драматургия?
Если ты попадаешь в поток, то всегда чувствуешь, когда надо закончить. И ты же очень живо взаимодействуешь с залом: они могут поаплодировать, могут покричать «браво», могут промолчать, или встать, – ориентируешься на зал. Но и друг на друга тоже.
А потом я стала одна делать моноспектакли. Макс помог с первым – BESTелесность, я его играла в разных городах. Следующий уже сама поставила, там сложно было не догадаться, как делать, так как он назывался «Я умею огонь», и все вертелось вокруг огня: свечки были, мантия прикольная…
То есть не совсем импровизация?..
50 на 50. Реквизит и что будет на сцене – продумано и приготовлено заранее, но стихи я выбирала уже на сцене. И вот уже с этой постановкой я объездила очень много городов – от Нижнего Новгорода до Элисты! А потом каждый новый спектакль, как надоедает одни стихи читать, делаю из новых.
Последняя вещь – при участии композитора, музыканта Марины Гутеневой. Мы сделали спектакль на двоих, она аккомпанирует мне на гитаре, я выступила режиссером. Летом 2019-го с этим спектаклем участвовали в настоящем театральном фестивале Риты Саар «НестандАРТ». Ничего там не заняли, ведь там были профессиональные режиссеры, но было приятно, что меня вообще туда включили. Рита мне предложила, я согласилась. Причем, я думала, что буду как гость со стихами выступать, а потом в программке увидела: «Режиссер Юлия Мамочева, спектакль „Мой радар"». И можно было отменить, мол, ошибка, опечатка, но я по натуре боец, и решила, что раз меня заявили как режиссера, придется им стать за неделю. Мы заморочились! И грим нам делали – моя читательница, прекрасная визажистка Анна Князева, платье у Марины было красивое – она изображала Музу, а я Поэта. Очень хороший опыт, мы бы хотели его повторить.
Ты еще и в профессиональном театре с недавних пор играешь. Расскажи про эти ощущения.
В театре я с 2012 года, и первой моей сценой была Малая сцена театра на Таганке, еще до ее реконструкции. Меня туда пригласил Влад Маленко, это был самый первый выпуск «Театра поэтов». Там был Замшев, Чистяков, Зубов… в общем, мужчины за 50 и Юля Мамочева – такая подборка. И еще мой папа был в Москве и пришел тогда на этот спектакль.
А для меня театр на Таганке очень значим, еще в студенчестве я откладывала стипендию, и через день ходила туда за сотку. И после этого первого перфоманса я мельком познакомилась с Валерием Золотухиным, ему понравился мой текст «Вершина», и он сказал, что Володя <Высоцкий> наверняка бы оценил этот текст, и мне это было так приятно!.. Что через одно рукопожатие я «знакома» с легендарным Владимиром Семеновичем…
Потом с Театром поэтов было еще несколько проектов, Влад Маленко ставил наш небезызвестный спектакль «Сотворение мира», премьера которого состоялась в Александринке в Питере, выступали в Москве. Потом было еще несколько постановок. И в этом году я открывала поэтическое десятилетие во МХАТе, куда ты меня пригласил.
Пригласил-то я, но осталась там ты! Расскажи об этом!
Мы начали работать над моим спектаклем и долго не могли подобрать актрису читать мои стихи. Не получилось с Алисой Гребенщиковой, стала читать актриса МХАТа Екатерина Ливанова.
На репетициях я очень подружилась с режиссером Сергеем Глазковым – как-то очень быстро, буквально за два дня. Нашли очень много точек пересечения, общались о поэзии, о жизни – сразу поняли, что мы на одной волне. И он предложил поучаствовать в профессиональном спектакле, хотя у меня нет театрального образования, но он сказал: вижу талант, давай! Я согласилась, и первым стала читка современной пьесы «Это все она», белорусского драматурга Андрея Иванова. Гениальная пьеса, в которой половина действия происходит в виртуальной реальности – буквально предсказано то, что у нас сейчас. У меня была сложная роль: я играла аватара матери. Мать – женщина лет 40, потерявшая мужа, которая пытается найти общий язык с сыном. Для этого она создает в интернете аватара – девочку-гота, которая тоже слушает тяжелую музыку, тоже переехала из Питера (это уже параллель со мной), и аватар находит с мальчиком общий язык так, как не могла сама мать. Сложность роли в том, что мне приходилось играть и мать, и то, как мать пытается быть подростком. Такая матрешка, две роли в одной, и ни одну нельзя проигнорировать. И Сережа дал нам задание показывать отстраненность, максимальную холодность, чтобы было два живых персонажа и два неживых аватара. Мы успели отыграть премьеру на сцене МХАТа 19 февраля, а на карантине мы показывали ее на ресурсе «Комсомольской правды», и пьеса очень зашла людям – более 20 тысяч просмотров было. И третий опыт – была куратором на одном спектакле прям перед самым карантином 3 марта.
Как в тебе, поэте, уживаются такие противоположности: МХАТ – достаточно «правый» театр, часть твоей аудитории «левых» взглядов, ты можешь поехать в Киев выступать – и там есть своя аудитория. Как в тебе сочетаются такие полярности и как удается везде достичь успеха?
Основная причина – в честности. Я не заискиваю ни перед какой аудиторией, и говорю об общечеловеческих вещах. Что «правый» человек, что «левый» когда-нибудь любил. Он любит свою мать, бабушку, отца, близкого человека, которого выбрал себе в пару, детей, страну. Я не говорю в своей поэзии на спекулятивные темы, а все-таки больше о вечном, потому что мне самой сиюминутное не очень интересно, я больше за глобальные философские материи.
При этом твои тексты – прямое философское высказывание!
Мы же, люди, – не картонные, а многогранные. В каких-то вещах я строго за общечеловеческие ценности, в других – за «левые» и так далее.
Я честна – а честность подкупает. По крайней мере, меня честность подкупает всегда, и когда я слышу от человека то, что мне не близко, но он сам в это верит и не меняет и отстаивает свою позицию, а не как флюгер – куда ветер подул, туда и повернулся, я буду его уважать и руку жать. А когда в глаза одно, а за глаза другое – это не очень интересно. И третье – общечеловеческие вещи. Эти все грани есть во мне самой.
Но границы раздела не всегда проходят по политике, например, а бывают общечеловеческие. Например, как домашнее насилие, которое сильно поляризует общество. Как ты умудряешься пройти по бровке, не срываясь ни в одну сторону?
Потому что я за здравый смысл. Никто не станет отрицать, что в нашей стране есть проблема домашнего насилия, и карантин это лишний раз доказал – дети, женщины, пожилые, да и мужчины наверно тоже подвержены этому. Эта тема не гендерная, а общечеловеческая, когда один хочет контролировать и бьет другого. Он пользуется вседозволенностью, потому что сейчас в России нет закона, который бы защитил жертву. Я говорю с позиции здравого смысла: если ты с кем-то живешь, то бить этого человека плохо, как плохо отбирать у него деньги. Если ты родил ребенка – неси ответственность. Или не рожай, или не бей, если он орет и мешает тебе работать, потому что надо было раньше думать, потому что известно, что дети иногда орут. И такое общечеловеческое очень тяжело оспорить. В любом движении есть неадекватные люди, это нормально. Тот же феминизм говорит супер радикальную вещь, что у женщин должны быть равные права с мужчинами.
Но ведь равные права и полное равенство – это разные вещи. Когда люди полностью равны, они имеют и права, и обязанности. Но существуют различия, которые не позволяют достичь равенства во всем, и его, может, не нужно достигать. Например, определенные виды работ, связанные с физической нагрузкой, или финансовые стереотипы, и финансовый стереотип положителен для женщин, потому что когда женщина начинает требовать от мужчины денег, то это ей на пользу.
Но если у тебя есть деньги, ты не пойдешь в магазин воровать кусок масла или не поедешь в автобусе «зайцем». Если бы не было ущемления, такого стеклянного потолка для женщин, что они получают на 30% меньше мужчин, то они бы и не просили у мужчин. Если Саша Митрошина зарабатывает миллионы своим умом, то она ни из кого не выколачивает 500 рублей. Со стереотипами нужно бороться, и жить в ладу со здравым смыслом. Те же тяжелые работы: есть женщина, которая жмет от груди 80 кг, а есть мужчина с болезнью костей.
Хорошо, а призыв в армию? Призывают только мужчин!
Это плохо, я считаю, что у нас должна быть контрактная армия. Это меня всегда возмущало – почему половину населения принудительно призывают в армию и заставляют отдавать на это часть своей жизни?! Мой младший брат через пять лет столкнется с проблемой призыва. Почему он должен отдавать часть своей жизни и встречаться с той же дедовщиной, а сын богатого папы избежит этого, потому что за него отстегнули 100 тысяч? Я в корне против такого и против усиленной милитаризации нашей страны, которую нам пытаются навязывать. Стоит обратить внимание на другие вещи. Что, у нас нет других проблем, кроме войны и на нас правда постоянно кто-то пытается нападать?!
Ты же понимаешь, что это определенный механизм воздействия на общество, довольно неестественный. И как только начинается поляризация: пространство резких высказываний, пространство прямых действий, вот тогда растет градус агрессии. Вот с этим разве искусство не должно бороться – с агрессией и повышением резкости визга во всех смыслах?
А как оно может тут бороться? Быть нейтральным?
Твоя поэзия очень высоких тонов, резких широких мазков. Тебе не кажется, что такая поэзия и увеличивает агрессию? Твои «Незабудки» очень поляризуют аудиторию, вызывая болезненную реакцию, то есть искусство вызывает болезненную реакцию, и градус в обществе увеличивается.
А градус какой? Это стихотворение про то, что женщину убили. Она любила человека, жила с ним, но умерла из-за него.
…И человек, который никогда с этой темой не сталкивался, но прочитал «Незабудки» и стал относиться к этому радикально.
А как иначе? На определенную тему и должен быть радикальный взгляд. Нельзя насиловать людей – никогда и ни за что.
Уголовный кодекс регулирует эти вещи…
За убийство – да, а остальное – попробуй докажи. Осуждение идет в сторону женщины: сама виновата. Если изнасиловали, то начинают перебирать ее белье и обвинять: она спровоцировала, пришла в короткой юбке, а если пьяная – зачем пила и зачем вообще пошла к мужчине в гости… И мужчину ставят в положение ненормального: он увидел голую коленку и набросился, а женщина – провокатор, сама пришла – сама виновата.
Сумасшедший, может, и набросится, а если не сумасшедший, его наверно надо все-таки спровоцировать, нет? Он же чем-то мотивирован, он же не дебил озабоченный… Вот где градация?..
Автор вопроса прям нарывается на цензуру ))
А как именно спровоцировать-то? Это из той же серии дискуссии про педагогов. Моя подруга Аня написала очень хороший пост: табу встречаться со своим студентом. Выпустились <из вуза> – пожалуйста, встречайтесь. Иначе, если ты педагог, либо уволься, либо перейди в другой вуз, чтобы не контачить со своим студентом, какая бы ни была большая любовь. Иначе неважно, кто как одет и выглядит, просто – нельзя. Потому что педагог и студент изначально на разных социальных ступенях. Студентка может пригрозить, что она папе пожалуется за домогательства, а педагог пригрозит, что если она не раздвинет ноги, то он ее отчислит. Поэтому и нельзя встречаться педагогу и его студенту, чтобы не было в дальнейшем спекуляций. То же и в домашнем насилии, все не ангелы, и орут друг на друга, и тарелки бьют, но не надо нарочно себя так вести. Это касается и эмоционального, и психологического насилия. Я, может, страшную вещь скажу, но каждый из нас наверняка проявлял насилие к другому, мы все не ангелы. Мы манипулируем, шантажируем, ведем себя грубо, можем обидеть, испугать, но речь идет о том, что человек хотел этого не делать. В законе, который предлагает моя хорошая подруга Алена Попова (мы с ней сотрудничаем в этой теме), четко сказано: нужна реабилитация для самих абьюзеров. Когда человек чувствует, что он что-то не то делает и может прийти и попросить помощи: я обижаю своих близких, что мне делать?
У нас же в стране другая позиция: всегда виноват тот, кого обидели.
Тоже не всегда, есть же градации. Просто мы видим резонансные примеры, а не всю картину.
Вот вчера читаю новость, что муж убил свою жену, мать пятерых детей. В комментариях пишут, что это она плохая мать, наверно его довела. Но это как надо довести, чтобы человек убил и очень старался ее изуродовать?! И тут даже нашлись «адвокаты», которые и про своих жен сказали, мол, порой так выбесят, что убить хочется.
Читает стихи
…И тогда пришла Она к Марье, и в ноги упала ей.
Говорит: хоть ты защити меня, обогрей!
Посмотри, говорит, до сих пор я вся в синяках,
не болят они больше, да все не сойдут никак.
Говорит: и к подругам ходила я, и к ментам,
лезла в пе́тлю – а он обещал, что найдет и там.
Здесь же – плачет Она – голубые цветы цветут,
сделай, Марья, чтобы меня не нашел он тут!
Марья гладит по голой спине ее, вся звеня.
– Сколько вас, – отвечает – здесь таких у меня!
Становись, – говорит – вот сюда, как есть, босиком,
становись, – говорит – голубым-голубым цветком.
…И смотрела Она, становясь голубым цветком,
как из их квартиры его волокли менты.
И орал он, но голос Ей был уже незнаком,
и впервые Ей не было страшно до тошноты.
У подъезда шептались старухи. Курил сосед.
Сыну лет четырех мать прикрыла глаза рукой.
И на все это падал бескрайний, звенящий свет –
не сентябрьский, а какой-то совсем другой.
А потом голубое настало вдруг забытье.
Позабыла Она несчастное тело свое,
позабыла имя, голос, лицо и быт,
так и стала цветком средь таких же цветов голубых.
И глядит на них Марья.
И шепчет:
– Ни там, ни тут
не найдут они вас. Не найдут они вас. Не найдут.
Назови пятерых современных авторов, которых нельзя не знать и которые для тебя – главные.
Александр Кабанов, Евгения Бельченко, Анна Долгарева, Вера Полозкова и, уважим педагога – Дмитрий Львович Быков, конечно. В одном общем сборнике должны были опубликовать как раз Долгалеву и Быкова, и Быков, узнав о Долгаревой, отказался.
А с тобой так бывает – что кто-то с тобой не хочет быть в одном сборнике, например, или ты не хочешь?..
Я не хочу с откровенно слабыми. Мне все равно, что человек исповедует, если он это делает искренне и красиво, хорошо пишет. Есть те, кто меня недолюбливает, есть, кто слухи распускает, что я нечестно заработала свои деньги, издала свои книги или пробилась во МХАТ. Почему-то у таких людей голова работает только в одну сторону, но каждый мыслит в меру своей испорченности. Или говорят: Я не хочу с Мамочевой выступать, мы с ней в конфликте». По мне это попытка привлечь к себе внимание. Если и в конфликте – никто же не просит обниматься на сцене, выйди, прочитай и все. А когда это так на щите выносится, так и хочется спросить: «А что случилось-то?» – «А я вам не скажу!» Смешно.
Это зависть?
Я это называю избирательная принципиальность. Я ненавижу ложную скромность. Да, я привлекаю внимание и своей деятельностью, и своими успехами, и в достаточно небольшом возрасте многого добилась. Но по большей части потому, что много работала. Люди же эту «большую часть» упускают, считая, что Мамочева родилась и сразу – книжка издалась, бабах, вторая, бабах – и премия летит, а потом предлагают: а во МХАТ не хочешь ли; и Быков сам бежит с книжкой, и Сурганова только и делает, что деньги мне на карту отправляет каждый день. Люди, видимо, как-то так себе это представляют. А то, что выстроить контакт с человеком – тоже большая работа, поступить в МГИМО, где я познакомилась с Быковым, – тоже большая работа. И деньги я зарабатываю своим творчеством с 16 лет. Я продаю свои книги и рисунки. Еще в Питере я работала с 14 лет в газете – новостные заметки писала, интервью брала у местных муниципальных деятелей, работала книжным иллюстратором. Я все время работаю, и для меня логично, что какой-то успех приходит. Не всегда везет, как с какой-нибудь премией или конкурсом, вот принципиально не везет и все. Но если ты пашешь, то количество переходит в качество. Я сторонник такого подхода, а не сидеть в носу ковырять и ждать, когда же свалится на меня успех?! То же самое касается и продвижения: логично, что люди меня знают, если я с 14 лет выступаю в Питере, и с 17 – в Москве. Сначала ты работаешь на авторитет, потом тебя уже приглашают.
Давай успехом и закончим. Великому русскому поэту сколько приличествует иметь сегодня подписчиков в Инстаграме, и какую сумму дохода?
У каждого свои суммы…
По твоему мнению. Представим, что ожил Бродский, и сколько бы сегодня у него чего было?
Сегодняшний Бродский – это <Дмитрий> Воденников. Можно посмотреть, сколько у него чего.
Я не говорю, сколько нужно, а сколько прилично?
От нуля до бесконечности – каждый сам себе определяет эти числа, правда. Подписчики подписчикам рознь. Если они активны – это одна цифра, если неактивны – другая. Я знаю блогеров, у которых по 12 тысяч подписчиков и по тысяче лайков под каждым постом, а у кого-то 200 тысяч и 50 лайков. Сразу видно, кто купил, а у кого живые. Главное, чтобы автор был востребован, чтобы его приглашали в проекты, если ему пишут люди – значит, он востребован. А по деньгам – чтобы на жизнь хватало, поэзией не так легко заработать, как правило, нужны какие-то смежные сферы деятельности.
Что ж, закончим с полярными вопросами. Спасибо за содержательное интервью, уверен, мы сделаем еще много совместных проектов и во время, и особенно после карантина. Спасибо, Юля!
Наверное, за яркость.
Ты хочешь и дальше так писать или видишь свое развитие по-другому?
Личность поэта сильно спаяна с его творчеством. Я и человек такой – грубый, громкий, яркий. Кто-то меня любит, кто-то терпеть не может, если я люблю, то я все для этого человека сделаю, последнюю рубашку сниму. А если не люблю – то сразу, и могу на три буквы отправить сразу. Я прямой человек, и в поэзии мою прямоту видно. Это не юношеский максимализм, а черта характера. У меня папа такой же – вспыльчивый очень, и я тоже. Пытаемся сублимировать – в зал ходим, чтобы скидывать ненужную агрессию, энергетику темную. Как это скроешь?! У меня есть под настроение нежные стихи, когда я чувствую нежность, то выражаю.
Я больше не про нежность, а про – сложность. Нежность тоже может быть довольно грубой.
Сложно я писала в 17–18 лет, когда была внутренняя потребность к препарированию атомов. Я пишу с четырех лет, как поперло, так и не останавливается. В 16 я выпустила первую книжку, переехала в Москву из Питера, поступила в МГИМО. Мне нравилось играть на созвучиях, аллитерациях. Мне даже стыдно сейчас перечитывать тексты того периода, потому что там за игрой слов иногда сложно разглядеть смысл, и образ тяжеловесный, потому что я играла на звукописи. Искала себя, увлеченно читала авангардистов и старалась писать сложно. Потом эта волна схлынула, и постепенно прихожу к более простому, не извращаюсь со звуками, например.
То есть делаешь то, что срабатывает на публику, на читателя?
Я стараюсь делать то, на что у меня срабатывает электричество в позвоночнике. То, что мне кайфово – я это и делаю. От моих ранних книг мне уже не очень кайфово. Для истории пусть останутся, но потомкам я бы их не хотела оставлять, даже дома их нет. На один сайт даже написала, чтобы они удалили одну мою книгу.
Это же опасный путь! Не боишься, что через десять лет будешь так же относиться к своим сегодняшним книгам?
Велика вероятность. Человек же развивается все время.
Ты так легко это отбрасываешь?
Мы публичные люди, и невозможно избавиться от своего прошлого. Либо ты стесняешься себя в прошлом, как это у многих происходит, и я не исключение: болезненно бывает перечитывать себя. Можно прятаться всю жизнь, удалять, а можно смириться: да, это часть моего прошлого, и я выросла из того, что было тогда. И может, сегодняшнюю книжку буду перечитывать через десять лет и зубами скрипеть.
Но какие-то тексты остаются навечно, даже если книжку ты не любишь. Какие свои тексты ты считаешь настолько важными и сильными, что они останутся?
Есть популярные вещи, которые останутся. Их сейчас если загуглить, выпадает миллион перепостов. Вот про коронавирус – не писалось, не писалось, а потом бабах и целая летопись коронавирусная вылезла. Текст, который сейчас прочту, наверно, останется – его уже называют чуть ли не манифестом нашего времени.
Это оценка критиков или общественности?
Общественности. Критическую заметку на него написал один украинский церковный деятель Яков Кротов. Он разразился гневной отповедью, что я мало вижу чернухи и слишком идеализирую.
Читает:
И говорили что-то родители про крах мировой экономики,
и сидели все в одной комнате, и думала Даша: «Мы в домике!»
И Витька ругался: «Застряли, как в чертовом бункере,
свалил бы сто раз отсюда куда подальше».
А Даша учила буквы, и гречка на кухне булькала,
и было не очень спокойно, но радостно Даше.
Смотрела она, пока делала заданное на завтра,
как доллар зеленый растет до потолка динозавром,
как президент в телевизоре велит не ходить на улицу,
как занавеска танцует, как Витька за ноутом дуется.
Какие у мамы красивые волосы, какие у папы большие руки,
наконец-то можно налюбоваться на них, наглядеться.
И думала Даша, отдыхая от ежедневной разлуки,
что сейчас у нее неплохое, в сущности, детство
и что вообще лучший праздник – весь этот коронавирус.
И цвела в ее шестилетнем сердце неуязвимость.
Потому когда мама заплакала, что все это полный конец,
и когда папа ответил, что действительно – Апокалипсис,
Иначе такую весну бы в окне не показывали!»
Ведь и правда же, глупые взрослые, как это может быть ад,
если все расцветает и птицы над всем звенят,
если солнце повсюду, и свет его величав,
если мама и папа такие смешные в его лучах,
если даже Витька уже не сердится в его свете.
Если это весна.
Весной не бывает смерти.
Этот текст очень любит Любовь Толкалина, читает его периодически на выступлениях своих онлайновых, сейчас других не бывает (смеется).
Был онлайн-марафон поэтический в политехническом музее, и Люба там читала мой текст наряду с произведениями Федора Сваровского. Она с родителями своими самоизолировалась в деревне в Рязанской области, откуда она родом, и оттуда ведет прямые эфиры в том числе. И это было так эпично: она читает, идут технические сбои, все лицо в пикселях, а голос – этот чистый росток красоты – прорастает сквозь это техническое безобразие. Мне кажется, это очень символично, что люди из разных точек мира – кто в Нью-Йорке, кто во Франции, кто в деревне, кто в Москве или Питере, но мы все одновременно вместе.
Ты много написала за это время?
Текстов шесть, и для меня это много. Обычно я по одному хорошему стиху в месяц пишу. Лет в 18–19, бывало, писала через день: как попрет – и не можешь остановить этот поток, как «горшочек, не вари». По стиху в месяц – это хорошо, я фильтрую то, что приходит, чтобы было максимально качественно. А тут за два месяца – шесть хороших текстов. И они как раз меня спровоцировали сделать спектакль – там будет шесть поэтических блоков.
А как вообще сделать идеальный поэтический спектакль?
Это к режиссеру вопрос…
У тебя же моноспектакль!.. Ты их сама ставишь?
Сначала мне помогал мой друг, Макс Потемкин. Он актер, поэт, бывший танцор балета. Мы с ним вместе начинали работать в жанре интуитивного поэтического перфоманса в 2014 году. У нас был спектакль «Дуэт», делали в Булгаковском доме. Суть в чем: ты читаешь стих, и либо сам себе отвечаешь, либо другой тебе отвечает тоже стихом, который вспоминает, – по типу игры в ассоциации.
Это действительно ассоциации или по сценарию?
Последние выступления – по сценарию, а начинали мы именно с ассоциации. И в этом есть своя магия! Ведь ассоциация может быть разная: например, Макс читает свой текст про бабочку, и у меня есть текст про бабочку. И если у него –
Бабочка должна быть белой,
Чтобы глаз не отвести,
Ослепительное тело
Заметалось на пути.
И заканчивается оно: «…это в бабочку, как в щелку, чуть прищурясь, смотрит бог…» А мне приходит мой текст про Питер, который очень любил Андрей Дементьев:
О коммунальный ад в четыре комнаты!
Лежу в одной и вижу, разомлев,
Свой Питер, словно бабочка, приколотый
Иглой Адмиралтейскою – к земле.
И Максу приходят стихи про Питер уже, и <получается> такой пинг-понг.
А к чему это в итоге приходит? Заложена заранее какая-то драматургия?
Если ты попадаешь в поток, то всегда чувствуешь, когда надо закончить. И ты же очень живо взаимодействуешь с залом: они могут поаплодировать, могут покричать «браво», могут промолчать, или встать, – ориентируешься на зал. Но и друг на друга тоже.
А потом я стала одна делать моноспектакли. Макс помог с первым – BESTелесность, я его играла в разных городах. Следующий уже сама поставила, там сложно было не догадаться, как делать, так как он назывался «Я умею огонь», и все вертелось вокруг огня: свечки были, мантия прикольная…
То есть не совсем импровизация?..
50 на 50. Реквизит и что будет на сцене – продумано и приготовлено заранее, но стихи я выбирала уже на сцене. И вот уже с этой постановкой я объездила очень много городов – от Нижнего Новгорода до Элисты! А потом каждый новый спектакль, как надоедает одни стихи читать, делаю из новых.
Последняя вещь – при участии композитора, музыканта Марины Гутеневой. Мы сделали спектакль на двоих, она аккомпанирует мне на гитаре, я выступила режиссером. Летом 2019-го с этим спектаклем участвовали в настоящем театральном фестивале Риты Саар «НестандАРТ». Ничего там не заняли, ведь там были профессиональные режиссеры, но было приятно, что меня вообще туда включили. Рита мне предложила, я согласилась. Причем, я думала, что буду как гость со стихами выступать, а потом в программке увидела: «Режиссер Юлия Мамочева, спектакль „Мой радар"». И можно было отменить, мол, ошибка, опечатка, но я по натуре боец, и решила, что раз меня заявили как режиссера, придется им стать за неделю. Мы заморочились! И грим нам делали – моя читательница, прекрасная визажистка Анна Князева, платье у Марины было красивое – она изображала Музу, а я Поэта. Очень хороший опыт, мы бы хотели его повторить.
Ты еще и в профессиональном театре с недавних пор играешь. Расскажи про эти ощущения.
В театре я с 2012 года, и первой моей сценой была Малая сцена театра на Таганке, еще до ее реконструкции. Меня туда пригласил Влад Маленко, это был самый первый выпуск «Театра поэтов». Там был Замшев, Чистяков, Зубов… в общем, мужчины за 50 и Юля Мамочева – такая подборка. И еще мой папа был в Москве и пришел тогда на этот спектакль.
А для меня театр на Таганке очень значим, еще в студенчестве я откладывала стипендию, и через день ходила туда за сотку. И после этого первого перфоманса я мельком познакомилась с Валерием Золотухиным, ему понравился мой текст «Вершина», и он сказал, что Володя <Высоцкий> наверняка бы оценил этот текст, и мне это было так приятно!.. Что через одно рукопожатие я «знакома» с легендарным Владимиром Семеновичем…
Потом с Театром поэтов было еще несколько проектов, Влад Маленко ставил наш небезызвестный спектакль «Сотворение мира», премьера которого состоялась в Александринке в Питере, выступали в Москве. Потом было еще несколько постановок. И в этом году я открывала поэтическое десятилетие во МХАТе, куда ты меня пригласил.
Пригласил-то я, но осталась там ты! Расскажи об этом!
Мы начали работать над моим спектаклем и долго не могли подобрать актрису читать мои стихи. Не получилось с Алисой Гребенщиковой, стала читать актриса МХАТа Екатерина Ливанова.
На репетициях я очень подружилась с режиссером Сергеем Глазковым – как-то очень быстро, буквально за два дня. Нашли очень много точек пересечения, общались о поэзии, о жизни – сразу поняли, что мы на одной волне. И он предложил поучаствовать в профессиональном спектакле, хотя у меня нет театрального образования, но он сказал: вижу талант, давай! Я согласилась, и первым стала читка современной пьесы «Это все она», белорусского драматурга Андрея Иванова. Гениальная пьеса, в которой половина действия происходит в виртуальной реальности – буквально предсказано то, что у нас сейчас. У меня была сложная роль: я играла аватара матери. Мать – женщина лет 40, потерявшая мужа, которая пытается найти общий язык с сыном. Для этого она создает в интернете аватара – девочку-гота, которая тоже слушает тяжелую музыку, тоже переехала из Питера (это уже параллель со мной), и аватар находит с мальчиком общий язык так, как не могла сама мать. Сложность роли в том, что мне приходилось играть и мать, и то, как мать пытается быть подростком. Такая матрешка, две роли в одной, и ни одну нельзя проигнорировать. И Сережа дал нам задание показывать отстраненность, максимальную холодность, чтобы было два живых персонажа и два неживых аватара. Мы успели отыграть премьеру на сцене МХАТа 19 февраля, а на карантине мы показывали ее на ресурсе «Комсомольской правды», и пьеса очень зашла людям – более 20 тысяч просмотров было. И третий опыт – была куратором на одном спектакле прям перед самым карантином 3 марта.
Как в тебе, поэте, уживаются такие противоположности: МХАТ – достаточно «правый» театр, часть твоей аудитории «левых» взглядов, ты можешь поехать в Киев выступать – и там есть своя аудитория. Как в тебе сочетаются такие полярности и как удается везде достичь успеха?
Основная причина – в честности. Я не заискиваю ни перед какой аудиторией, и говорю об общечеловеческих вещах. Что «правый» человек, что «левый» когда-нибудь любил. Он любит свою мать, бабушку, отца, близкого человека, которого выбрал себе в пару, детей, страну. Я не говорю в своей поэзии на спекулятивные темы, а все-таки больше о вечном, потому что мне самой сиюминутное не очень интересно, я больше за глобальные философские материи.
При этом твои тексты – прямое философское высказывание!
Мы же, люди, – не картонные, а многогранные. В каких-то вещах я строго за общечеловеческие ценности, в других – за «левые» и так далее.
Я честна – а честность подкупает. По крайней мере, меня честность подкупает всегда, и когда я слышу от человека то, что мне не близко, но он сам в это верит и не меняет и отстаивает свою позицию, а не как флюгер – куда ветер подул, туда и повернулся, я буду его уважать и руку жать. А когда в глаза одно, а за глаза другое – это не очень интересно. И третье – общечеловеческие вещи. Эти все грани есть во мне самой.
Но границы раздела не всегда проходят по политике, например, а бывают общечеловеческие. Например, как домашнее насилие, которое сильно поляризует общество. Как ты умудряешься пройти по бровке, не срываясь ни в одну сторону?
Потому что я за здравый смысл. Никто не станет отрицать, что в нашей стране есть проблема домашнего насилия, и карантин это лишний раз доказал – дети, женщины, пожилые, да и мужчины наверно тоже подвержены этому. Эта тема не гендерная, а общечеловеческая, когда один хочет контролировать и бьет другого. Он пользуется вседозволенностью, потому что сейчас в России нет закона, который бы защитил жертву. Я говорю с позиции здравого смысла: если ты с кем-то живешь, то бить этого человека плохо, как плохо отбирать у него деньги. Если ты родил ребенка – неси ответственность. Или не рожай, или не бей, если он орет и мешает тебе работать, потому что надо было раньше думать, потому что известно, что дети иногда орут. И такое общечеловеческое очень тяжело оспорить. В любом движении есть неадекватные люди, это нормально. Тот же феминизм говорит супер радикальную вещь, что у женщин должны быть равные права с мужчинами.
Но ведь равные права и полное равенство – это разные вещи. Когда люди полностью равны, они имеют и права, и обязанности. Но существуют различия, которые не позволяют достичь равенства во всем, и его, может, не нужно достигать. Например, определенные виды работ, связанные с физической нагрузкой, или финансовые стереотипы, и финансовый стереотип положителен для женщин, потому что когда женщина начинает требовать от мужчины денег, то это ей на пользу.
Но если у тебя есть деньги, ты не пойдешь в магазин воровать кусок масла или не поедешь в автобусе «зайцем». Если бы не было ущемления, такого стеклянного потолка для женщин, что они получают на 30% меньше мужчин, то они бы и не просили у мужчин. Если Саша Митрошина зарабатывает миллионы своим умом, то она ни из кого не выколачивает 500 рублей. Со стереотипами нужно бороться, и жить в ладу со здравым смыслом. Те же тяжелые работы: есть женщина, которая жмет от груди 80 кг, а есть мужчина с болезнью костей.
Хорошо, а призыв в армию? Призывают только мужчин!
Это плохо, я считаю, что у нас должна быть контрактная армия. Это меня всегда возмущало – почему половину населения принудительно призывают в армию и заставляют отдавать на это часть своей жизни?! Мой младший брат через пять лет столкнется с проблемой призыва. Почему он должен отдавать часть своей жизни и встречаться с той же дедовщиной, а сын богатого папы избежит этого, потому что за него отстегнули 100 тысяч? Я в корне против такого и против усиленной милитаризации нашей страны, которую нам пытаются навязывать. Стоит обратить внимание на другие вещи. Что, у нас нет других проблем, кроме войны и на нас правда постоянно кто-то пытается нападать?!
Ты же понимаешь, что это определенный механизм воздействия на общество, довольно неестественный. И как только начинается поляризация: пространство резких высказываний, пространство прямых действий, вот тогда растет градус агрессии. Вот с этим разве искусство не должно бороться – с агрессией и повышением резкости визга во всех смыслах?
А как оно может тут бороться? Быть нейтральным?
Твоя поэзия очень высоких тонов, резких широких мазков. Тебе не кажется, что такая поэзия и увеличивает агрессию? Твои «Незабудки» очень поляризуют аудиторию, вызывая болезненную реакцию, то есть искусство вызывает болезненную реакцию, и градус в обществе увеличивается.
А градус какой? Это стихотворение про то, что женщину убили. Она любила человека, жила с ним, но умерла из-за него.
…И человек, который никогда с этой темой не сталкивался, но прочитал «Незабудки» и стал относиться к этому радикально.
А как иначе? На определенную тему и должен быть радикальный взгляд. Нельзя насиловать людей – никогда и ни за что.
Уголовный кодекс регулирует эти вещи…
За убийство – да, а остальное – попробуй докажи. Осуждение идет в сторону женщины: сама виновата. Если изнасиловали, то начинают перебирать ее белье и обвинять: она спровоцировала, пришла в короткой юбке, а если пьяная – зачем пила и зачем вообще пошла к мужчине в гости… И мужчину ставят в положение ненормального: он увидел голую коленку и набросился, а женщина – провокатор, сама пришла – сама виновата.
Сумасшедший, может, и набросится, а если не сумасшедший, его наверно надо все-таки спровоцировать, нет? Он же чем-то мотивирован, он же не дебил озабоченный… Вот где градация?..
Автор вопроса прям нарывается на цензуру ))
А как именно спровоцировать-то? Это из той же серии дискуссии про педагогов. Моя подруга Аня написала очень хороший пост: табу встречаться со своим студентом. Выпустились <из вуза> – пожалуйста, встречайтесь. Иначе, если ты педагог, либо уволься, либо перейди в другой вуз, чтобы не контачить со своим студентом, какая бы ни была большая любовь. Иначе неважно, кто как одет и выглядит, просто – нельзя. Потому что педагог и студент изначально на разных социальных ступенях. Студентка может пригрозить, что она папе пожалуется за домогательства, а педагог пригрозит, что если она не раздвинет ноги, то он ее отчислит. Поэтому и нельзя встречаться педагогу и его студенту, чтобы не было в дальнейшем спекуляций. То же и в домашнем насилии, все не ангелы, и орут друг на друга, и тарелки бьют, но не надо нарочно себя так вести. Это касается и эмоционального, и психологического насилия. Я, может, страшную вещь скажу, но каждый из нас наверняка проявлял насилие к другому, мы все не ангелы. Мы манипулируем, шантажируем, ведем себя грубо, можем обидеть, испугать, но речь идет о том, что человек хотел этого не делать. В законе, который предлагает моя хорошая подруга Алена Попова (мы с ней сотрудничаем в этой теме), четко сказано: нужна реабилитация для самих абьюзеров. Когда человек чувствует, что он что-то не то делает и может прийти и попросить помощи: я обижаю своих близких, что мне делать?
У нас же в стране другая позиция: всегда виноват тот, кого обидели.
Тоже не всегда, есть же градации. Просто мы видим резонансные примеры, а не всю картину.
Вот вчера читаю новость, что муж убил свою жену, мать пятерых детей. В комментариях пишут, что это она плохая мать, наверно его довела. Но это как надо довести, чтобы человек убил и очень старался ее изуродовать?! И тут даже нашлись «адвокаты», которые и про своих жен сказали, мол, порой так выбесят, что убить хочется.
Читает стихи
…И тогда пришла Она к Марье, и в ноги упала ей.
Говорит: хоть ты защити меня, обогрей!
Посмотри, говорит, до сих пор я вся в синяках,
не болят они больше, да все не сойдут никак.
Говорит: и к подругам ходила я, и к ментам,
лезла в пе́тлю – а он обещал, что найдет и там.
Здесь же – плачет Она – голубые цветы цветут,
сделай, Марья, чтобы меня не нашел он тут!
Марья гладит по голой спине ее, вся звеня.
– Сколько вас, – отвечает – здесь таких у меня!
Становись, – говорит – вот сюда, как есть, босиком,
становись, – говорит – голубым-голубым цветком.
…И смотрела Она, становясь голубым цветком,
как из их квартиры его волокли менты.
И орал он, но голос Ей был уже незнаком,
и впервые Ей не было страшно до тошноты.
У подъезда шептались старухи. Курил сосед.
Сыну лет четырех мать прикрыла глаза рукой.
И на все это падал бескрайний, звенящий свет –
не сентябрьский, а какой-то совсем другой.
А потом голубое настало вдруг забытье.
Позабыла Она несчастное тело свое,
позабыла имя, голос, лицо и быт,
так и стала цветком средь таких же цветов голубых.
И глядит на них Марья.
И шепчет:
– Ни там, ни тут
не найдут они вас. Не найдут они вас. Не найдут.
Назови пятерых современных авторов, которых нельзя не знать и которые для тебя – главные.
Александр Кабанов, Евгения Бельченко, Анна Долгарева, Вера Полозкова и, уважим педагога – Дмитрий Львович Быков, конечно. В одном общем сборнике должны были опубликовать как раз Долгалеву и Быкова, и Быков, узнав о Долгаревой, отказался.
А с тобой так бывает – что кто-то с тобой не хочет быть в одном сборнике, например, или ты не хочешь?..
Я не хочу с откровенно слабыми. Мне все равно, что человек исповедует, если он это делает искренне и красиво, хорошо пишет. Есть те, кто меня недолюбливает, есть, кто слухи распускает, что я нечестно заработала свои деньги, издала свои книги или пробилась во МХАТ. Почему-то у таких людей голова работает только в одну сторону, но каждый мыслит в меру своей испорченности. Или говорят: Я не хочу с Мамочевой выступать, мы с ней в конфликте». По мне это попытка привлечь к себе внимание. Если и в конфликте – никто же не просит обниматься на сцене, выйди, прочитай и все. А когда это так на щите выносится, так и хочется спросить: «А что случилось-то?» – «А я вам не скажу!» Смешно.
Это зависть?
Я это называю избирательная принципиальность. Я ненавижу ложную скромность. Да, я привлекаю внимание и своей деятельностью, и своими успехами, и в достаточно небольшом возрасте многого добилась. Но по большей части потому, что много работала. Люди же эту «большую часть» упускают, считая, что Мамочева родилась и сразу – книжка издалась, бабах, вторая, бабах – и премия летит, а потом предлагают: а во МХАТ не хочешь ли; и Быков сам бежит с книжкой, и Сурганова только и делает, что деньги мне на карту отправляет каждый день. Люди, видимо, как-то так себе это представляют. А то, что выстроить контакт с человеком – тоже большая работа, поступить в МГИМО, где я познакомилась с Быковым, – тоже большая работа. И деньги я зарабатываю своим творчеством с 16 лет. Я продаю свои книги и рисунки. Еще в Питере я работала с 14 лет в газете – новостные заметки писала, интервью брала у местных муниципальных деятелей, работала книжным иллюстратором. Я все время работаю, и для меня логично, что какой-то успех приходит. Не всегда везет, как с какой-нибудь премией или конкурсом, вот принципиально не везет и все. Но если ты пашешь, то количество переходит в качество. Я сторонник такого подхода, а не сидеть в носу ковырять и ждать, когда же свалится на меня успех?! То же самое касается и продвижения: логично, что люди меня знают, если я с 14 лет выступаю в Питере, и с 17 – в Москве. Сначала ты работаешь на авторитет, потом тебя уже приглашают.
Давай успехом и закончим. Великому русскому поэту сколько приличествует иметь сегодня подписчиков в Инстаграме, и какую сумму дохода?
У каждого свои суммы…
По твоему мнению. Представим, что ожил Бродский, и сколько бы сегодня у него чего было?
Сегодняшний Бродский – это <Дмитрий> Воденников. Можно посмотреть, сколько у него чего.
Я не говорю, сколько нужно, а сколько прилично?
От нуля до бесконечности – каждый сам себе определяет эти числа, правда. Подписчики подписчикам рознь. Если они активны – это одна цифра, если неактивны – другая. Я знаю блогеров, у которых по 12 тысяч подписчиков и по тысяче лайков под каждым постом, а у кого-то 200 тысяч и 50 лайков. Сразу видно, кто купил, а у кого живые. Главное, чтобы автор был востребован, чтобы его приглашали в проекты, если ему пишут люди – значит, он востребован. А по деньгам – чтобы на жизнь хватало, поэзией не так легко заработать, как правило, нужны какие-то смежные сферы деятельности.
Что ж, закончим с полярными вопросами. Спасибо за содержательное интервью, уверен, мы сделаем еще много совместных проектов и во время, и особенно после карантина. Спасибо, Юля!
Иван Купреянов
