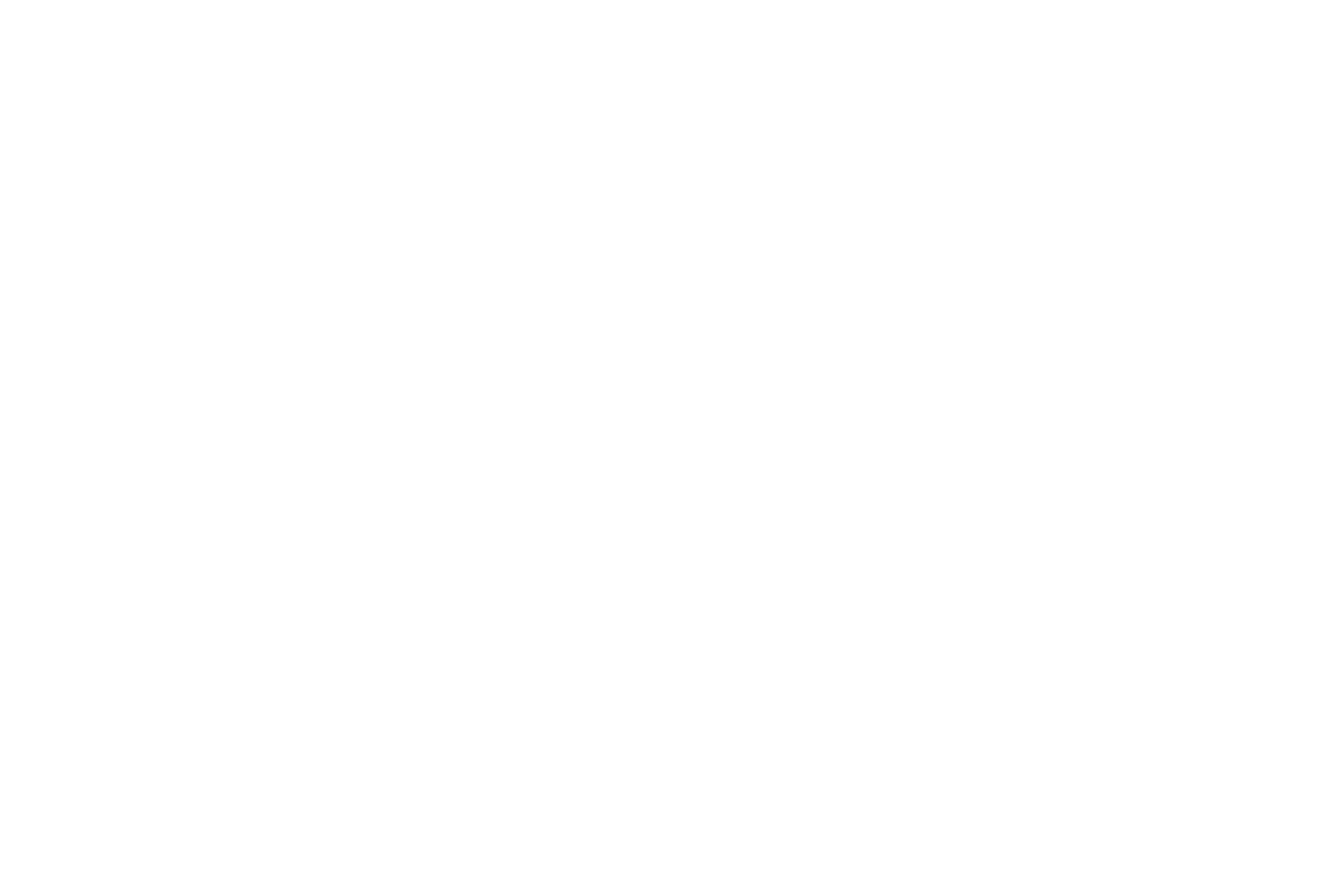
Андрей Геласимов
Вопросы: Евгений Сулес
Сегодня у нас в гостях Андрей Валерьевич Геласимов, писатель, кандидат филологических наук, по первому образованию – филолог, по второму – театральный режиссер, ГИТИС, мастерская Анатолия Васильева. Лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» и премии «Студенческий Букер». Книги переведены на многие языки мира. По нескольким романам сняты полнометражные фильмы и сериал.
Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте, Евгений.
Спасибо, что пришли к нам.
Спасибо, что позвали.
Я зачитал краткую биографическую справку. В принципе, прекрасная писательская судьба. Как вы сами оцениваете, оглядывая путь, который уже пройден?
Я доволен. У меня получилось несколько карьер. Я же до этого был университетским преподавателем. А потом театральным режиссером. Собственно, писательская судьба началась в 2001 году с публикации на сайте Проза.ру. А до этого у меня были другие профессии.
Я думаю, это интересно нашим зрителям. Потому что большинство из них публикуется на сайтах Проза.ру, Стихи.ру. Расскажите подробнее, как начинался ваш путь?
Я тогда работал в Якутском государственном университете. Был заместителем заведующего кафедрой английской филологии. Был строгим академическим кабинетным ученым и преподавателем. Поскольку я работал с анализом текста, у студентов возникали разные вопросы: как выстроен тот или иной текст Хемингуэя, или Оскара Уайльда, или Уильяма Фолкнера. И я им говорил, что это построено так, так или так. Однажды они задали мне вопрос: «А могли бы вы, зная эти хитрости, тропы, основные синтаксические особенности, сами написать рассказ?» И это был такой челлендж, они меня поймали на слабо. Я тогда написал несколько рассказов и поставил их на Проза.ру.
И как? Сразу появились читатели?
Я не знаю, как сейчас, я не очень часто захожу вообще на любые сайты. Но тогда была очень активная жизнь на Проза.ру, и сложилась сразу группа авторов, с которыми я общаюсь до сих пор. Хорошие авторы. Многие впоследствии опубликовали свои книги, стали писателями. Тот же Боря Гайдук, с которым мы тогда подружились. Он сейчас пишет сценарии для телевизионных сериалов, то есть это стало его профессией. Более того, складывались семьи. Боря Гайдук женился на Юле Алехиной, создали замечательную семью, сын родился. Оба были авторы Проза.ру. Юля продолжает писать, но непрофессионально, потому что у нее какая‑то серьезная работа. Но она пишет романы все равно. И она замечательный писатель. Тогда были очень сильные авторы. Мы встречались. Была тогда премия, вот как сейчас национальная литературная премия «Писатель года», нас собрали в ЦДЛ, и первый раз мы все увидели друг друга, познакомились. Ходили в рестораны. Потом уже общались домами. Я даже ездил в Киев, там была такая тусовка Прозы.ру. В общем, дружили очень сильно. Веселились, читали, смеялись. Не далее, как в мае этого года я был в Нью‑Йорке на так называемой Неделе русской литературы. И пришла Света Сачкова. Приехала специально в Нью‑Йорк откуда‑то из американской глубинки. Вот она тоже была из той группы авторов Проза.ру. Мы до сих пор поддерживаем хорошие отношения.
Сейчас, кстати, жизнь на Проза.ру еще более активная, и премий стало больше.
Замечательно.
И я знаю, что ваша страница до сих пор есть.
Да. Основные произведения я вынужден был убрать из‑за договоров со своими издателями. Но какие‑то миниатюры я там с удовольствием оставляю. Были мысли убрать. Но потом я подумал, зачем? Это место, с которого все начиналось, пусть стоит. Как символ для меня, как хорошая примета.
Нам приятно. К тому же там есть ссылка, куда можно дальше перейти и ваши произведения найти. А что было дальше? Сначала публикация на Проза.ру, появились читатели, которые сами были авторами. А как дальше ваш путь продолжался?
Параллельно с Проза.ру я отправил свои тексты в журнал «Октябрь», в частности. Прям пошел на Главпочтамт, запечатал в конверт свой рассказ «Нежный возраст». И они его взяли, опубликовали тогда же.
Удивительная история – взяли из самотека. То есть никаких контактов…
Да, из самотека. Нет, ничего. Через неделю я получил мейл…
Через неделю???
Да. Через неделю я получил мейл от Олега Павлова, который год спустя получил «Русского Букера». Он сидел на самотеке в «Октябре». И он мне пишет: «Мы берем ваш рассказ, он нам понравился». И как раз это была первая публикация и на Проза.ру. Таким образом он одновременно появился и в интернете, и журнал «Октябрь» его напечатал. После этого я собрал еще несколько своих вещей, «Жажду» в том числе, которая уже стояла на Проза.ру, и зашел в издательство «ОГИ» – «Объединенное гуманитарное издательство» – к Дмитрию Ицковичу, и он почитал и тоже быстро, буквально за несколько часов, принял решение напечатать книгу. Он сказал: «Мы это напечатаем». Ему это показалось тогда свежим материалом.
Слушайте, у вас как‑то очень все складывалось. Я удивлен, что из самотека можно попасть в журнал. Друзья, не бойтесь, посылайте свои произведения в толстые журналы, все может быть. А он, кстати, не рассказывал вам, как он читает? То есть читает все, просматривает? Или как?
Он мне сказал, что читает все. Показал огромную стопку – от пола примерно выше этого стола (показывает). И он сказал, что читает это все. В итоге он нашел мои рассказы. Я ему очень признателен за это.
«Жажду», вы сказали, что принесли. То есть «Жажда» уже была написана до этого?
Да. И она стояла на Проза.ру.
Кстати, вот интересно. Немногие знают, что «Жажда» вышла на два года раньше, чем «Патологии» Прилепина. Пожалуй, это одна из первых повестей, связанных с ребятами, которые прошли Чечню.
Скажем так, одно из первых художественных осмыслений. Потому что мемуарные, документальные воспоминания участников событий, разумеется, уже были в сети. Но при всей ценности документальных, фактических материалов они не обладали художественной силой. Просто потому, что это были обычные офицеры, воевавшие там ребята, и они как могли, так и рассказали. У меня было именно художественное переосмысление. И, наверное, это был первый художественный опыт. Довольно удачный. Она переведена больше, чем на десяток языков.
Это очень мощная вещь. А как вы над ней работали? Сами вы не воевали…
Не воевал.
Как вам удалось передать? Там градус правды очень хороший.
Я сам хоть и не был в тех местах, но так получилось, что я много общался с людьми, там воевавшими. Мои студенты, которые учились у меня в Якутском государственном университете, многие из них в 1996‑м году были призваны в армию, тогда сняли бронь со студенчества. Это срочники были. Кое‑кто попал в зону боевых действий на Северном Кавказе. Потом они вернулись. Снова сели на студенческую скамью. Снова стали моими студентами. И я продолжил рассказывать им про Гомера, Чарльза Диккенса. Но они не очень меня слушали, что‑то у них было другое. И тогда я начал задавать вопросы. Я останавливал лекции иногда, спрашивал, а что, а как. Они не очень хотели говорить. В общем, разговоры были тяжелые. И в результате этих тяжелых разговоров… Я даже не знал, что буду писать об этом. Я просто хотел узнать, что происходит. Не из телевизора.
И этот текст во мне, видимо, назревал, постепенно появлялись герои. И потом пришел Третий концерт Бетховена для фортепиано с оркестром. Я понял, как звучит текст. И тогда я написал первую строку: «Вся водка в холодильник не поместилась». Этот ритм Бетховена из третьего концерта и краткость синтаксиса – и книга дальше вся пошла. Я понял: они пьют. Водку. Много. И поэтому вещь сразу назвалась – «Жажда». А потом мне оставалось только придумать. Я понимал, что герой должен был быть в чем‑то очень талантлив. Да, ему так не повезло, он сгорел в БТРе, в него граната прилетела. Но я должен был дать ему компенсацию. Но это я понимал, как ученый‑филолог. Я знал, как строить текст. Как человек, уже защитивший диссертацию по композиции текста. И по характерологии, по персонажам. Я понимал, что у персонажа должен быть баланс. То есть да, он находится в ужасной зоне, но я должен дать ему какой‑то волшебный элексир. И тогда я подумал: он будет талантлив. И дальше уже осталось только выбирать. Я думал, музыкант? Ну это уже как‑то все было. Братья с гитарами, фильм «Брат». Это понятно. Петь, танцевать – это слишком шоу‑бизнес. Я отказался от этой затеи. Писать, писатель… Тоже долго думал, может быть, он пишет, сочиняет рассказы? Но потом остановился по очень простой причине – я очень не люблю прозу про писателей. То есть как только я открываю книгу и герой – писатель, я тут же закрываю, потому что это… Еще раз, я говорю это не как профессионал-писатель, а как ученый, это чаще всего герметичная проза, в которой все дохнет и умирает, любые растения. Герметичная проза о себе, любимом. Писатели, которые пишут о себе, любимом… Его хватит на одну‑две книги, не больше. Потому что надо писать о мире, который вокруг вас. Я отказался от писателя. И потом понял: он рисует. А в силу тех ужасов, которые он увидел на войне, он рисует, как Капричос Гойя. Страшные рисунки. Жуткие, метафорические, не совсем реалистические. И когда я понял, как это происходит, появился мой Костя на свет. С обгоревшим лицом. Ненавидящий весь мир. Но при этом обладающий талантом.
Вы вспомнили фильм «Брат». Произвел в свое время впечатление?
Конечно. Конечно, это было насмотрено с огромным интересом. Но у меня к работе Балабанова и вообще к его взгляду на мир двойственное отношение. Он безумно талантливый человек. Гениальный зачастую. Но он смотрит не в ту сторону, куда надо было смотреть гениальному человеку. Понятно, что боль, грязь, ее много. Война, ужасы, и человек бывает отвратителен. Он меня на небе сейчас слышит. Я бы сказал, что человек бывает и прекрасен. Он ровно (подчеркивает) настолько же прекрасен, насколько отвратителен. И в творчестве Балабанова я этого не находил. Особенно в последних фильмах, очень депрессивных. И поэтому мне «Жажду» хотелось написать как дискуссию, в некотором диалоге с Балабановым, что обязательно финал должен давать надежду. Поэтому мой герой рисует себе лицо. Оно сгорело, но он себе его нарисовал. И когда его спрашивает героиня: «А чье это лицо?» Последняя реплика в повести. Он говорит: «Мое». И я думаю, это самая сильная реплика, которую я написал за всю жизнь: «Мое».
Большое вам спасибо за этот финал. Для вас важно, чтобы все‑таки катарсис случился?
Угу.
Просто погрузить…
В мрачное подземелье?
Да. И не достать оттуда…
Нет, не надо.
Вот за это отдельное спасибо. Мне тоже кажется, что сейчас и современное кино, и проза во многом забывают про катарсис.
Они на самом деле забывают про то, что все должно быть по синусоиде. Обязательно закон синусоиды. Если кто‑то умер, он должен воскреснуть. Это же не я придумал, это в Евангелии (смеются). Ну умер человек, подождите воскресения. Осталось три дня с пятницы, в пятницу – распятие. Ну подождите два дня, суббота вот уже. Воскресенье. Все. Воскрес. Идите вынимайте из пещеры. И это ощущение чуда, и чуда позитивного, заложено в самой природе человека. Так должно быть. А искусство отражает же нас. Поэтому обязательно должна быть синусоида. Умер – воскресни, пожалуйста.
Прекрасно. А такой достаточно простой язык там сознательно выбран?
Да. Это было намеренно выбрано. Во‑первых, потому что герои такие. Это просто мальчишки, пэтэушники из Подмосковья. Из Фрязино, из Подольска. Не отягощенные никаким образованием. Мне стоило трудов, потому что я все‑таки был на тот момент кандидатом филологических наук, определенная школа, ГИТИС уже закончил. Но в данном случае театральное прошлое мне как раз помогало. Я просто вселялся в этих ребят, тех, кого сейчас называют гопниками. Мои герои там – гопники по сути. Но моя задача была – создать гопников прекрасных. Они клевые. Я работал над этим, да.
А по поводу театрального, как вас вообще занесло? Вот вы были филологом. Почему появилось желание поступить на театральную режиссуру?
Я, пока учился на факультете иностранных языков в Якутске, попал в студенческий театр. Случайно. Просто ожидал друга, меня завели на репетицию. Они что‑то репетировали на сцене. А я вообще не очень‑то ходил в театры. В детстве – на утренники, на елки, Деда Мороза смотрел, но в основном у меня там был корыстный интерес. Я ходил на эти утренники, чтобы мне подарок дали. А само представление со скачущими зайчиками я пропускал. Ну, в буфет бегал, хулиганил. А здесь зашел – и они что‑то там делают. Я сидел, ждал, у нас вечеринка, надо идти. Я ему все время маячу: «Саня, там девчонки, вино уже купили, давай как‑то…» А он: «Подожди». И в какой‑то момент я заинтересовался и подумал, что лучше сделать вот так (указующий жест). Я ему говорю: «Слушай, ты ему отойди туда, за спину, а ты выйди сюда. И здесь громко так скажи». А там стоит режиссер. Но я ж не понимаю ни иерархии, ни политики. Оборачивается режиссер этого театра, а он профессиональный артист областной драмы, оборачивается: «А вы, может, нам покажете сами, как это сделать?» На слабо меня опять ловит. Я: «Да легко. – Вышел: – Вот, смотри, я здесь встану, он здесь и как будто говорит вот это». Так началась моя режиссерская карьера. И потом я уже не ушел.
То есть вы там что‑то ставили и захотелось дальше?
Да, я в студенческом театре занимался. Потом начал писать пьесы. Мы даже выигрывали какие‑то конкурсы студенческих театров. В Хабаровск поехали, получили приз журнала «Студенческий меридиан». За драматургию именно. Тогда я задумался, что, видимо, могу сочинять. Мы уже тогда возили мои тексты. И когда я закончил университет, мне было понятно уже, что я поеду поступать в ГИТИС. Я сразу же собрался и поехал поступать на режиссерский факультет.
А к Анатолию Васильеву случайно попали?
Нет, намеренно.
То есть вы уже про него знали, будучи в Якутии?
Да. Последний год, что я учился в университете, я уже внимательно читал журнал «Театр», изучал и видел, что каждый третий номер был о Васильеве. Он тогда был прямо в топе‑в топе. Он только что получил тогда приз как лучший театральный режиссер Европы. Уже был приглашен в «Комеди Франсез» – первый нефранцузский режиссер, ставить в Дом Мольера! Я уже понимал, что это очень круто. Марк Захаров – тогда для меня это было уже старовато. Нафталин. Любимов со своими революционными матросами. Даже из дикой провинции мне это казалось староватым. А то, что я читал про Васильева, я ж не видел постановок, интернета не было, я читал журнал «Театр» и видел фотографии. И видел, что по‑другому все выставлено: свет по‑другому стоит, актеры как‑то по‑другому движутся. Ну и сами тексты интервью Анатолия Александровича были потрясающе необычными. Я же уже прочитал тогда книгу Юрского «Кто держит паузу», книги Леонида Филатова о театре, я серьезно подошел к изучению вопроса. И уже понимал, что не буду педагогом английского языка. Вот. Поехал в ГИТИС и с первого захода поступил на режиссерский факультет.
Сколько вам лет было?
21.
Для режиссера мало. Стараются старше брать.
Ну да, да, да. У нас были взрослые ребята. Саша Галибин был на десять лет нас старше.
А, Галибин с вами учился…
Да. Еще ребята постарше были.
Понятно, что такая фигура как Анатолий Васильев не могла не оставить отпечаток. Расскажите, какие взаимоотношения складывались?
Не могла. Отношения с Васильевым у всех складывались непросто. Потому что когда рядом с вами гений и вы тоже что‑то из себя представляете, во всяком случае, тешете себя надеждой, что вы тоже не бездарны, и вокруг еще человек 15 сплошных гениев, которых Васильев отобрал. А конкурс был насыщенный, потом посчитали бумажки и выяснилось, что примерно 600 человек на место. Поскольку мы это узнали, нам кто‑то из приемной комиссии сказал, то мы, эти 15 оболтусов, взяли кое‑что себе в голову: вот, нас же отобрали, мы же какие‑то необычные, очень талантливые. На что Васильев на первом же курсе пришел и сказал: «Ну что, думаете, что вы молодцы? Сейчас я вам устрою». И самое мягкое, что он говорил нам: «Тухлое болото ваших мозгов» (смеются). А мы такие: «Как так. Анатолий Александрович, мы с высшим образованием». У всех университеты за плечами, у кого‑то театральные вузы, как у Саши Галибина. Более того, Галибин уже звезда, он уже снялся в роли Пашки‑Америки в «Трактире на Пятницкой». Он уже играет в сериале «Мужество». Его узнают на улицах, с ним приятно ходить кофе пить в кафе, официантки ему улыбаются и все такое. И нам такие слова! Года два потратил Анатолий Александрович на то, чтобы выбить нам дурь из головы.
Выбил?
Выбил. Я с тех пор не боюсь никакой критики. Вообще. Никакой. Легко переделываю. Легко соглашаюсь с тем, что я неправ. Если мой оппонент говорит дело. Я научился слышать дело. И это, кстати, очень полезно знать начинающим и самодеятельным авторам – когда тебе говорят: «Дружище, кажется, что‑то плохо в твоем тексте». Чаще всего начинающий автор воспринимает это как обиду, потому что слышит как бы негативный отзыв. Вместо того, чтобы посмотреть, а может быть, там все‑таки есть конструктивное зерно. А может, тебе говорят: «Слушай, дружище, а что если этого персонажа заменить. Он у тебя проседает, не развивается». Или: «А вот ты начинаешь слишком медленно. Давай не в десяти абзацах у тебя стартует экспозиция, а в одном. Попробуешь сократить это до одного и оставить только самое важное?» И когда ты слушаешь такую критику, то надо слушать не то, что тебе негативно сказали «нет», а надо слышать, что тебе предлагают. И вот этому научил Васильев.
То есть у вас нет черного списка критиков…
Нет. Когда плохая критика и человек неправ, мне не важно, что он меня ругает. Мне важно, что он неправ. А если он ругает и я вижу: а, ну да, дружище, это умно, это правильно сказано. Тогда я, конечно, с этим критиком соглашусь. Но черного списка нет никакого.
Вообще театр и особенно театр Васильева, мне всегда представлялся такой небольшой сектой. Там много от секты?
Некая закрытость была. В частности, Анатолий Александрович сам отбирал зрителей на показы. Говорил нам: «Вы мне покажите списки, кто к вам придет». И мы писали имена, фамилии. Зачем ему это? Кого из них он знал? Но он смотрел на фамилии. Потом, когда приходили и усаживались зрители, он выходил, проходил между рядами и так говорил: «Вот вы, и вы, и вы, уходите». То есть прямо прогонял людей. Я не знаю, из каких соображений, из физиогномических… У нас же театр был без рампы, актеры и зрители, мы всегда были в одном целом. Вот как мы с вами сейчас ведем диалог.
Это здание на Поварской?
Да, на Поварской. В подвальчике. Контакт был полный с залом. И, очевидно, он убирал людей, которые, по его мнению, не рифмовались с нами. С которыми у нас контакт мог не заладиться. По результатам он был прав. Контакт с залом всегда был. Я помню, когда играл Мышкина, мы делали «Идиота», и у меня был выход. Я стою, нервничаю, зритель уже сидит на месте, проходит Васильев – но я не знал, что это мастер, кто‑то проходит, за локоть берет. Я хотел сказать: «Отвяжись. Я готовлюсь, я князь Мышкин, не трогайте меня». Оборачиваюсь, вижу – мастер. Я: «Да?» А он: «Слушай, ты сейчас выйдешь и делай паузу. Не говори сразу свою первую реплику». Я: «Понял». А доверие же абсолютное. Он для нас – бог. И он мне сказал: «Терпи, сколько сможешь». И я вышел и встал перед зрителями. И стою. Вот как он выстраивал контакт с аудиторией. Я стою, они смотрят: вышел артист. Смотрят. Ну вот сколько есть приличия, сколько могут вытерпеть зрители? Потом начинают поворачиваться, типа дурачок какой‑то пришел. Может, это и не артист? Может, это рабочий сцены? Текст забыл? Масса рождается всего.
В этот момент, кстати, Васильев генерирует у них работу мысли. Они проснулись. Понимаете, да? Он как режиссер работает с залом в данном случае. За счет задачи артиста. Текст забыл? Или это режиссерская придумка? Масса версий. Потом они уже поняли, что так и должно быть, начали хихикать. Раздается: хи‑хи‑хи, ха‑ха. А что будет? Они строят предположения. И в конце концов я уже понимаю, что все, терпеть нельзя, и я говорю реплику князя Мышкина. Я говорю: «Господа, не найдется ни у кого десяти рублей?» И дикий хохот. И дальше уже играть очень легко. Этот зритель – ваш. Дальше ты можешь говорить любой текст. И ты говоришь любые сложные философские монологи. Они включились. Они твои. Они не спят, отделенные от тебя, а они вместе с тобой и Достоевским в этот момент. И вы пошли. И плюс в этот момент совершается гиперорганика. Режиссер достигает ее не только у артиста, но и у зала. Зал не зажат, понимаете? Зал выходит из ситуации зала, если можно так выразиться. А он находится в ситуации, когда мы вместе создаем некое художественное действие. Вот здесь. Отталкиваясь от ситуации, предложенной Достоевским. Это метод Васильева.
Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте, Евгений.
Спасибо, что пришли к нам.
Спасибо, что позвали.
Я зачитал краткую биографическую справку. В принципе, прекрасная писательская судьба. Как вы сами оцениваете, оглядывая путь, который уже пройден?
Я доволен. У меня получилось несколько карьер. Я же до этого был университетским преподавателем. А потом театральным режиссером. Собственно, писательская судьба началась в 2001 году с публикации на сайте Проза.ру. А до этого у меня были другие профессии.
Я думаю, это интересно нашим зрителям. Потому что большинство из них публикуется на сайтах Проза.ру, Стихи.ру. Расскажите подробнее, как начинался ваш путь?
Я тогда работал в Якутском государственном университете. Был заместителем заведующего кафедрой английской филологии. Был строгим академическим кабинетным ученым и преподавателем. Поскольку я работал с анализом текста, у студентов возникали разные вопросы: как выстроен тот или иной текст Хемингуэя, или Оскара Уайльда, или Уильяма Фолкнера. И я им говорил, что это построено так, так или так. Однажды они задали мне вопрос: «А могли бы вы, зная эти хитрости, тропы, основные синтаксические особенности, сами написать рассказ?» И это был такой челлендж, они меня поймали на слабо. Я тогда написал несколько рассказов и поставил их на Проза.ру.
И как? Сразу появились читатели?
Я не знаю, как сейчас, я не очень часто захожу вообще на любые сайты. Но тогда была очень активная жизнь на Проза.ру, и сложилась сразу группа авторов, с которыми я общаюсь до сих пор. Хорошие авторы. Многие впоследствии опубликовали свои книги, стали писателями. Тот же Боря Гайдук, с которым мы тогда подружились. Он сейчас пишет сценарии для телевизионных сериалов, то есть это стало его профессией. Более того, складывались семьи. Боря Гайдук женился на Юле Алехиной, создали замечательную семью, сын родился. Оба были авторы Проза.ру. Юля продолжает писать, но непрофессионально, потому что у нее какая‑то серьезная работа. Но она пишет романы все равно. И она замечательный писатель. Тогда были очень сильные авторы. Мы встречались. Была тогда премия, вот как сейчас национальная литературная премия «Писатель года», нас собрали в ЦДЛ, и первый раз мы все увидели друг друга, познакомились. Ходили в рестораны. Потом уже общались домами. Я даже ездил в Киев, там была такая тусовка Прозы.ру. В общем, дружили очень сильно. Веселились, читали, смеялись. Не далее, как в мае этого года я был в Нью‑Йорке на так называемой Неделе русской литературы. И пришла Света Сачкова. Приехала специально в Нью‑Йорк откуда‑то из американской глубинки. Вот она тоже была из той группы авторов Проза.ру. Мы до сих пор поддерживаем хорошие отношения.
Сейчас, кстати, жизнь на Проза.ру еще более активная, и премий стало больше.
Замечательно.
И я знаю, что ваша страница до сих пор есть.
Да. Основные произведения я вынужден был убрать из‑за договоров со своими издателями. Но какие‑то миниатюры я там с удовольствием оставляю. Были мысли убрать. Но потом я подумал, зачем? Это место, с которого все начиналось, пусть стоит. Как символ для меня, как хорошая примета.
Нам приятно. К тому же там есть ссылка, куда можно дальше перейти и ваши произведения найти. А что было дальше? Сначала публикация на Проза.ру, появились читатели, которые сами были авторами. А как дальше ваш путь продолжался?
Параллельно с Проза.ру я отправил свои тексты в журнал «Октябрь», в частности. Прям пошел на Главпочтамт, запечатал в конверт свой рассказ «Нежный возраст». И они его взяли, опубликовали тогда же.
Удивительная история – взяли из самотека. То есть никаких контактов…
Да, из самотека. Нет, ничего. Через неделю я получил мейл…
Через неделю???
Да. Через неделю я получил мейл от Олега Павлова, который год спустя получил «Русского Букера». Он сидел на самотеке в «Октябре». И он мне пишет: «Мы берем ваш рассказ, он нам понравился». И как раз это была первая публикация и на Проза.ру. Таким образом он одновременно появился и в интернете, и журнал «Октябрь» его напечатал. После этого я собрал еще несколько своих вещей, «Жажду» в том числе, которая уже стояла на Проза.ру, и зашел в издательство «ОГИ» – «Объединенное гуманитарное издательство» – к Дмитрию Ицковичу, и он почитал и тоже быстро, буквально за несколько часов, принял решение напечатать книгу. Он сказал: «Мы это напечатаем». Ему это показалось тогда свежим материалом.
Слушайте, у вас как‑то очень все складывалось. Я удивлен, что из самотека можно попасть в журнал. Друзья, не бойтесь, посылайте свои произведения в толстые журналы, все может быть. А он, кстати, не рассказывал вам, как он читает? То есть читает все, просматривает? Или как?
Он мне сказал, что читает все. Показал огромную стопку – от пола примерно выше этого стола (показывает). И он сказал, что читает это все. В итоге он нашел мои рассказы. Я ему очень признателен за это.
«Жажду», вы сказали, что принесли. То есть «Жажда» уже была написана до этого?
Да. И она стояла на Проза.ру.
Кстати, вот интересно. Немногие знают, что «Жажда» вышла на два года раньше, чем «Патологии» Прилепина. Пожалуй, это одна из первых повестей, связанных с ребятами, которые прошли Чечню.
Скажем так, одно из первых художественных осмыслений. Потому что мемуарные, документальные воспоминания участников событий, разумеется, уже были в сети. Но при всей ценности документальных, фактических материалов они не обладали художественной силой. Просто потому, что это были обычные офицеры, воевавшие там ребята, и они как могли, так и рассказали. У меня было именно художественное переосмысление. И, наверное, это был первый художественный опыт. Довольно удачный. Она переведена больше, чем на десяток языков.
Это очень мощная вещь. А как вы над ней работали? Сами вы не воевали…
Не воевал.
Как вам удалось передать? Там градус правды очень хороший.
Я сам хоть и не был в тех местах, но так получилось, что я много общался с людьми, там воевавшими. Мои студенты, которые учились у меня в Якутском государственном университете, многие из них в 1996‑м году были призваны в армию, тогда сняли бронь со студенчества. Это срочники были. Кое‑кто попал в зону боевых действий на Северном Кавказе. Потом они вернулись. Снова сели на студенческую скамью. Снова стали моими студентами. И я продолжил рассказывать им про Гомера, Чарльза Диккенса. Но они не очень меня слушали, что‑то у них было другое. И тогда я начал задавать вопросы. Я останавливал лекции иногда, спрашивал, а что, а как. Они не очень хотели говорить. В общем, разговоры были тяжелые. И в результате этих тяжелых разговоров… Я даже не знал, что буду писать об этом. Я просто хотел узнать, что происходит. Не из телевизора.
И этот текст во мне, видимо, назревал, постепенно появлялись герои. И потом пришел Третий концерт Бетховена для фортепиано с оркестром. Я понял, как звучит текст. И тогда я написал первую строку: «Вся водка в холодильник не поместилась». Этот ритм Бетховена из третьего концерта и краткость синтаксиса – и книга дальше вся пошла. Я понял: они пьют. Водку. Много. И поэтому вещь сразу назвалась – «Жажда». А потом мне оставалось только придумать. Я понимал, что герой должен был быть в чем‑то очень талантлив. Да, ему так не повезло, он сгорел в БТРе, в него граната прилетела. Но я должен был дать ему компенсацию. Но это я понимал, как ученый‑филолог. Я знал, как строить текст. Как человек, уже защитивший диссертацию по композиции текста. И по характерологии, по персонажам. Я понимал, что у персонажа должен быть баланс. То есть да, он находится в ужасной зоне, но я должен дать ему какой‑то волшебный элексир. И тогда я подумал: он будет талантлив. И дальше уже осталось только выбирать. Я думал, музыкант? Ну это уже как‑то все было. Братья с гитарами, фильм «Брат». Это понятно. Петь, танцевать – это слишком шоу‑бизнес. Я отказался от этой затеи. Писать, писатель… Тоже долго думал, может быть, он пишет, сочиняет рассказы? Но потом остановился по очень простой причине – я очень не люблю прозу про писателей. То есть как только я открываю книгу и герой – писатель, я тут же закрываю, потому что это… Еще раз, я говорю это не как профессионал-писатель, а как ученый, это чаще всего герметичная проза, в которой все дохнет и умирает, любые растения. Герметичная проза о себе, любимом. Писатели, которые пишут о себе, любимом… Его хватит на одну‑две книги, не больше. Потому что надо писать о мире, который вокруг вас. Я отказался от писателя. И потом понял: он рисует. А в силу тех ужасов, которые он увидел на войне, он рисует, как Капричос Гойя. Страшные рисунки. Жуткие, метафорические, не совсем реалистические. И когда я понял, как это происходит, появился мой Костя на свет. С обгоревшим лицом. Ненавидящий весь мир. Но при этом обладающий талантом.
Вы вспомнили фильм «Брат». Произвел в свое время впечатление?
Конечно. Конечно, это было насмотрено с огромным интересом. Но у меня к работе Балабанова и вообще к его взгляду на мир двойственное отношение. Он безумно талантливый человек. Гениальный зачастую. Но он смотрит не в ту сторону, куда надо было смотреть гениальному человеку. Понятно, что боль, грязь, ее много. Война, ужасы, и человек бывает отвратителен. Он меня на небе сейчас слышит. Я бы сказал, что человек бывает и прекрасен. Он ровно (подчеркивает) настолько же прекрасен, насколько отвратителен. И в творчестве Балабанова я этого не находил. Особенно в последних фильмах, очень депрессивных. И поэтому мне «Жажду» хотелось написать как дискуссию, в некотором диалоге с Балабановым, что обязательно финал должен давать надежду. Поэтому мой герой рисует себе лицо. Оно сгорело, но он себе его нарисовал. И когда его спрашивает героиня: «А чье это лицо?» Последняя реплика в повести. Он говорит: «Мое». И я думаю, это самая сильная реплика, которую я написал за всю жизнь: «Мое».
Большое вам спасибо за этот финал. Для вас важно, чтобы все‑таки катарсис случился?
Угу.
Просто погрузить…
В мрачное подземелье?
Да. И не достать оттуда…
Нет, не надо.
Вот за это отдельное спасибо. Мне тоже кажется, что сейчас и современное кино, и проза во многом забывают про катарсис.
Они на самом деле забывают про то, что все должно быть по синусоиде. Обязательно закон синусоиды. Если кто‑то умер, он должен воскреснуть. Это же не я придумал, это в Евангелии (смеются). Ну умер человек, подождите воскресения. Осталось три дня с пятницы, в пятницу – распятие. Ну подождите два дня, суббота вот уже. Воскресенье. Все. Воскрес. Идите вынимайте из пещеры. И это ощущение чуда, и чуда позитивного, заложено в самой природе человека. Так должно быть. А искусство отражает же нас. Поэтому обязательно должна быть синусоида. Умер – воскресни, пожалуйста.
Прекрасно. А такой достаточно простой язык там сознательно выбран?
Да. Это было намеренно выбрано. Во‑первых, потому что герои такие. Это просто мальчишки, пэтэушники из Подмосковья. Из Фрязино, из Подольска. Не отягощенные никаким образованием. Мне стоило трудов, потому что я все‑таки был на тот момент кандидатом филологических наук, определенная школа, ГИТИС уже закончил. Но в данном случае театральное прошлое мне как раз помогало. Я просто вселялся в этих ребят, тех, кого сейчас называют гопниками. Мои герои там – гопники по сути. Но моя задача была – создать гопников прекрасных. Они клевые. Я работал над этим, да.
А по поводу театрального, как вас вообще занесло? Вот вы были филологом. Почему появилось желание поступить на театральную режиссуру?
Я, пока учился на факультете иностранных языков в Якутске, попал в студенческий театр. Случайно. Просто ожидал друга, меня завели на репетицию. Они что‑то репетировали на сцене. А я вообще не очень‑то ходил в театры. В детстве – на утренники, на елки, Деда Мороза смотрел, но в основном у меня там был корыстный интерес. Я ходил на эти утренники, чтобы мне подарок дали. А само представление со скачущими зайчиками я пропускал. Ну, в буфет бегал, хулиганил. А здесь зашел – и они что‑то там делают. Я сидел, ждал, у нас вечеринка, надо идти. Я ему все время маячу: «Саня, там девчонки, вино уже купили, давай как‑то…» А он: «Подожди». И в какой‑то момент я заинтересовался и подумал, что лучше сделать вот так (указующий жест). Я ему говорю: «Слушай, ты ему отойди туда, за спину, а ты выйди сюда. И здесь громко так скажи». А там стоит режиссер. Но я ж не понимаю ни иерархии, ни политики. Оборачивается режиссер этого театра, а он профессиональный артист областной драмы, оборачивается: «А вы, может, нам покажете сами, как это сделать?» На слабо меня опять ловит. Я: «Да легко. – Вышел: – Вот, смотри, я здесь встану, он здесь и как будто говорит вот это». Так началась моя режиссерская карьера. И потом я уже не ушел.
То есть вы там что‑то ставили и захотелось дальше?
Да, я в студенческом театре занимался. Потом начал писать пьесы. Мы даже выигрывали какие‑то конкурсы студенческих театров. В Хабаровск поехали, получили приз журнала «Студенческий меридиан». За драматургию именно. Тогда я задумался, что, видимо, могу сочинять. Мы уже тогда возили мои тексты. И когда я закончил университет, мне было понятно уже, что я поеду поступать в ГИТИС. Я сразу же собрался и поехал поступать на режиссерский факультет.
А к Анатолию Васильеву случайно попали?
Нет, намеренно.
То есть вы уже про него знали, будучи в Якутии?
Да. Последний год, что я учился в университете, я уже внимательно читал журнал «Театр», изучал и видел, что каждый третий номер был о Васильеве. Он тогда был прямо в топе‑в топе. Он только что получил тогда приз как лучший театральный режиссер Европы. Уже был приглашен в «Комеди Франсез» – первый нефранцузский режиссер, ставить в Дом Мольера! Я уже понимал, что это очень круто. Марк Захаров – тогда для меня это было уже старовато. Нафталин. Любимов со своими революционными матросами. Даже из дикой провинции мне это казалось староватым. А то, что я читал про Васильева, я ж не видел постановок, интернета не было, я читал журнал «Театр» и видел фотографии. И видел, что по‑другому все выставлено: свет по‑другому стоит, актеры как‑то по‑другому движутся. Ну и сами тексты интервью Анатолия Александровича были потрясающе необычными. Я же уже прочитал тогда книгу Юрского «Кто держит паузу», книги Леонида Филатова о театре, я серьезно подошел к изучению вопроса. И уже понимал, что не буду педагогом английского языка. Вот. Поехал в ГИТИС и с первого захода поступил на режиссерский факультет.
Сколько вам лет было?
21.
Для режиссера мало. Стараются старше брать.
Ну да, да, да. У нас были взрослые ребята. Саша Галибин был на десять лет нас старше.
А, Галибин с вами учился…
Да. Еще ребята постарше были.
Понятно, что такая фигура как Анатолий Васильев не могла не оставить отпечаток. Расскажите, какие взаимоотношения складывались?
Не могла. Отношения с Васильевым у всех складывались непросто. Потому что когда рядом с вами гений и вы тоже что‑то из себя представляете, во всяком случае, тешете себя надеждой, что вы тоже не бездарны, и вокруг еще человек 15 сплошных гениев, которых Васильев отобрал. А конкурс был насыщенный, потом посчитали бумажки и выяснилось, что примерно 600 человек на место. Поскольку мы это узнали, нам кто‑то из приемной комиссии сказал, то мы, эти 15 оболтусов, взяли кое‑что себе в голову: вот, нас же отобрали, мы же какие‑то необычные, очень талантливые. На что Васильев на первом же курсе пришел и сказал: «Ну что, думаете, что вы молодцы? Сейчас я вам устрою». И самое мягкое, что он говорил нам: «Тухлое болото ваших мозгов» (смеются). А мы такие: «Как так. Анатолий Александрович, мы с высшим образованием». У всех университеты за плечами, у кого‑то театральные вузы, как у Саши Галибина. Более того, Галибин уже звезда, он уже снялся в роли Пашки‑Америки в «Трактире на Пятницкой». Он уже играет в сериале «Мужество». Его узнают на улицах, с ним приятно ходить кофе пить в кафе, официантки ему улыбаются и все такое. И нам такие слова! Года два потратил Анатолий Александрович на то, чтобы выбить нам дурь из головы.
Выбил?
Выбил. Я с тех пор не боюсь никакой критики. Вообще. Никакой. Легко переделываю. Легко соглашаюсь с тем, что я неправ. Если мой оппонент говорит дело. Я научился слышать дело. И это, кстати, очень полезно знать начинающим и самодеятельным авторам – когда тебе говорят: «Дружище, кажется, что‑то плохо в твоем тексте». Чаще всего начинающий автор воспринимает это как обиду, потому что слышит как бы негативный отзыв. Вместо того, чтобы посмотреть, а может быть, там все‑таки есть конструктивное зерно. А может, тебе говорят: «Слушай, дружище, а что если этого персонажа заменить. Он у тебя проседает, не развивается». Или: «А вот ты начинаешь слишком медленно. Давай не в десяти абзацах у тебя стартует экспозиция, а в одном. Попробуешь сократить это до одного и оставить только самое важное?» И когда ты слушаешь такую критику, то надо слушать не то, что тебе негативно сказали «нет», а надо слышать, что тебе предлагают. И вот этому научил Васильев.
То есть у вас нет черного списка критиков…
Нет. Когда плохая критика и человек неправ, мне не важно, что он меня ругает. Мне важно, что он неправ. А если он ругает и я вижу: а, ну да, дружище, это умно, это правильно сказано. Тогда я, конечно, с этим критиком соглашусь. Но черного списка нет никакого.
Вообще театр и особенно театр Васильева, мне всегда представлялся такой небольшой сектой. Там много от секты?
Некая закрытость была. В частности, Анатолий Александрович сам отбирал зрителей на показы. Говорил нам: «Вы мне покажите списки, кто к вам придет». И мы писали имена, фамилии. Зачем ему это? Кого из них он знал? Но он смотрел на фамилии. Потом, когда приходили и усаживались зрители, он выходил, проходил между рядами и так говорил: «Вот вы, и вы, и вы, уходите». То есть прямо прогонял людей. Я не знаю, из каких соображений, из физиогномических… У нас же театр был без рампы, актеры и зрители, мы всегда были в одном целом. Вот как мы с вами сейчас ведем диалог.
Это здание на Поварской?
Да, на Поварской. В подвальчике. Контакт был полный с залом. И, очевидно, он убирал людей, которые, по его мнению, не рифмовались с нами. С которыми у нас контакт мог не заладиться. По результатам он был прав. Контакт с залом всегда был. Я помню, когда играл Мышкина, мы делали «Идиота», и у меня был выход. Я стою, нервничаю, зритель уже сидит на месте, проходит Васильев – но я не знал, что это мастер, кто‑то проходит, за локоть берет. Я хотел сказать: «Отвяжись. Я готовлюсь, я князь Мышкин, не трогайте меня». Оборачиваюсь, вижу – мастер. Я: «Да?» А он: «Слушай, ты сейчас выйдешь и делай паузу. Не говори сразу свою первую реплику». Я: «Понял». А доверие же абсолютное. Он для нас – бог. И он мне сказал: «Терпи, сколько сможешь». И я вышел и встал перед зрителями. И стою. Вот как он выстраивал контакт с аудиторией. Я стою, они смотрят: вышел артист. Смотрят. Ну вот сколько есть приличия, сколько могут вытерпеть зрители? Потом начинают поворачиваться, типа дурачок какой‑то пришел. Может, это и не артист? Может, это рабочий сцены? Текст забыл? Масса рождается всего.
В этот момент, кстати, Васильев генерирует у них работу мысли. Они проснулись. Понимаете, да? Он как режиссер работает с залом в данном случае. За счет задачи артиста. Текст забыл? Или это режиссерская придумка? Масса версий. Потом они уже поняли, что так и должно быть, начали хихикать. Раздается: хи‑хи‑хи, ха‑ха. А что будет? Они строят предположения. И в конце концов я уже понимаю, что все, терпеть нельзя, и я говорю реплику князя Мышкина. Я говорю: «Господа, не найдется ни у кого десяти рублей?» И дикий хохот. И дальше уже играть очень легко. Этот зритель – ваш. Дальше ты можешь говорить любой текст. И ты говоришь любые сложные философские монологи. Они включились. Они твои. Они не спят, отделенные от тебя, а они вместе с тобой и Достоевским в этот момент. И вы пошли. И плюс в этот момент совершается гиперорганика. Режиссер достигает ее не только у артиста, но и у зала. Зал не зажат, понимаете? Зал выходит из ситуации зала, если можно так выразиться. А он находится в ситуации, когда мы вместе создаем некое художественное действие. Вот здесь. Отталкиваясь от ситуации, предложенной Достоевским. Это метод Васильева.
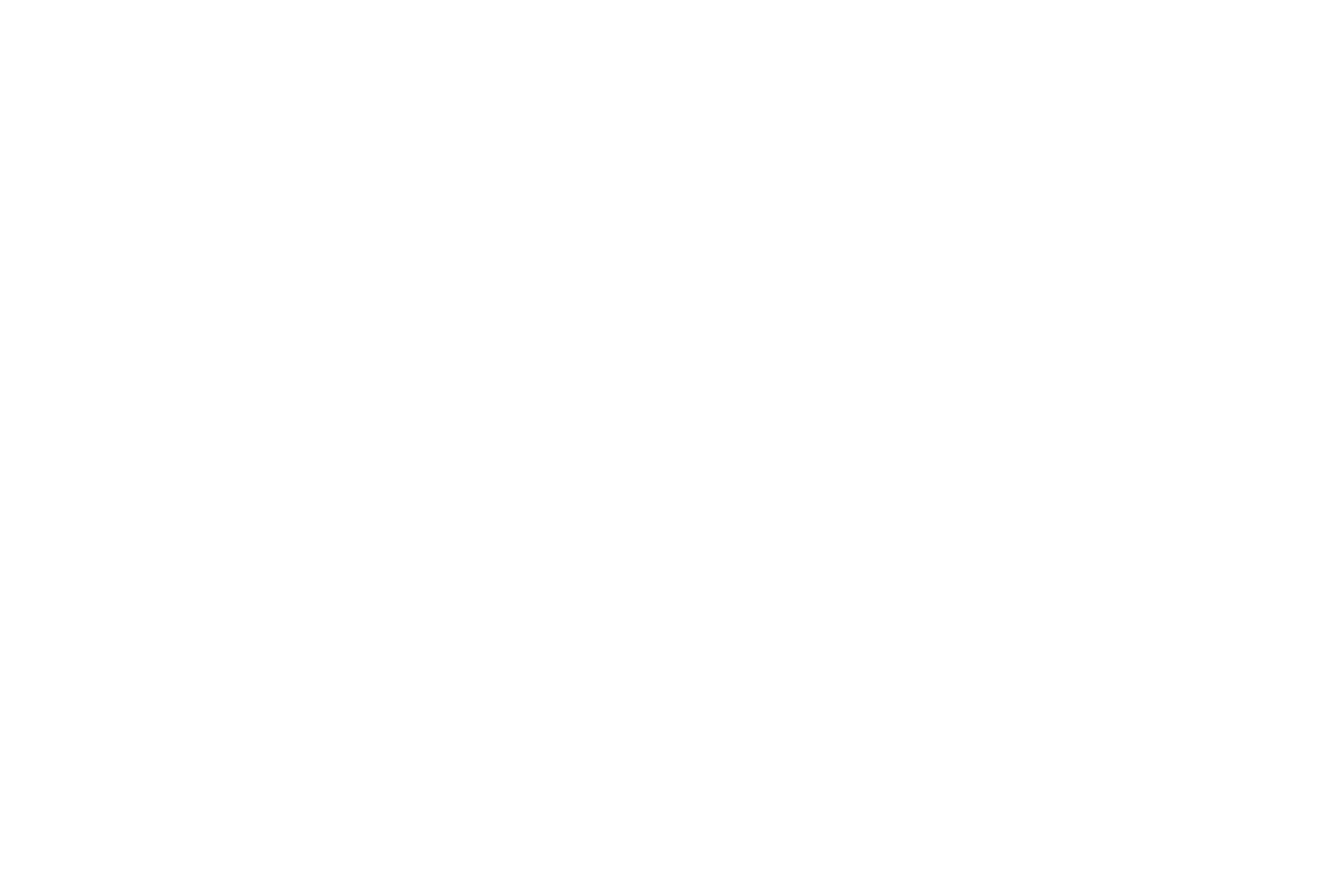
Судя по тому, что вы играли князя Мышкина, вы актерски там раскрылись, на курсе Васильева. Он вам доверил такую роль…
У нас же все играли всё. Мы играли отрывочки, каждый делал отрывочек, и потом Васильев из этих отрывков делал большой показ. И поэтому у нас могло быть десять князей Мышкиных. Они просто выходили, менялись. Один эту сцену, другой – эту.
Понятно. И вот вы закончили. Это какой год уже?
1991-93 год. Я помню, когда на репетиции ездили, троллейбус лежал на боку, сожженный. То есть тут революция только что прошла. Мы едем в театр – лежит на боку сгоревший троллейбус. Было весело.
И что дальше? Вы с театром?
Нет. Я завершил театральную карьеру. Потому что к пятому курсу случилось то, что Васильев пророчил на первом. Он нам сказал еще на первом курсе: «Любите театр?» Мы сказали: «Да! Очень! Обожаем театр». Он: «К пятому курсу возненавидите». В моем случае оказался прав. Когда закончилось обучение и мастер предложил сказать свои пожелания, кто остается, а кто уходит, я сказал: «Я уезжаю обратно в Якутск». И уехал.
И снова продолжили преподавать?
Совершенно верно. Я вернулся в университет. Потому что к этому моменту я уже ничего, кроме бессмысленного времяпрепровождения, в театре не видел.
А как зритель? Продолжали куда‑то ходить? Или вам вообще сам театр стал…
Да, сама идея театра мне не нравится. Мне не нравится, когда люди собираются в одном месте и развлекаются. Я не хожу на митинги, на стадионы, в кинотеатры иногда хожу.
И, соответственно, драматургию, пьесы вы потом не писали?
Я пишу сценарии. Но сценарии строго по своим произведениям.
Да, как раз хочу задать вопрос. С театром у вас, значит, не сложился роман, вы его возненавидели по пророчеству Васильева. А с кинематографом у вас прекраснейшие отношения.
С кино – да.
Как начиналось все?
Опять же Проза.ру, я думаю, сыграла тут свою роль. Мне написали письмо из Киева, редакторы, продюсеры Роднянского, тогда он руководил каналом «1+1» в Киеве. До всех этих печальных событий. Украина тогда была нашим большим другом. Они написали: «Нам очень нравится ваш роман „Год обмана". Не могли бы вы приехать к нам в Киев и познакомиться с Роднянским на предмет переговоров о экранизации? – И самое важное для начинающего автора: – Мы вам оплатим проезд и проживание в гостинице». Я подумал: «Надо же, мне оплачивают проезд до Киева и проживание. И еще, может быть, у меня что‑то купят».
Хороший русский язык до Киева доведет.
Вот. В данном случае язык до Киева довел (улыбаются). Я поехал в Киев. Действительно, редактора сказали: «Мы читаем Проза.ру. Нашли ваш роман „Год обмана". Хотим его экранизировать». Собственно говоря, первое знакомство с кинематографическими людьми, продюсерами у меня произошло из‑за Проза.ру.
С «Годом обмана» интересная же получилась ситуация, что вышел и фильм, и сериал.
Совершенно верно. Есть полнометражная история. Ее снимал Саша Котт. Он снимал полнометражную версию с Алексеем Чадовым и Екатериной Вилковой. А сериал снимал Дмитрий Тюрин спустя лет пять после той истории. И там играют другие актеры. Нынче замечательная звездочка Юлия Хлынина, которая в «Дуэлянте» играла. Она у нас играет Марину вместо Кати Вилковой. А вместо Алексея Чадова играет Сережа Чирков. Тоже хороший артист. В первом полнометражном у нас еще был Симонов, замечательный артист, он играл старшего героя, отца моего персонажа.
Потом была «Жажда»?
Вы имеете в виду в кино?
Да, экранизацию.
Да. После «Года обмана» мы сделали «Жажду». Сразу же после того, как я написал сценарий для кинокомпании «РВС», они же предложили мне экранизировать «Жажду». Буквально сразу. Я начал писать сценарий в тот же год. Он довольно долго не снимался, года два‑три. Но потом получил господдержку, его представили в Фонд кино. Там он получил определенные деньги и на эти деньги был снят.
Потом сериал «Дом на Озерной».
Да, сериал с замечательными артистами – Василий Лановой, Ирина Купченко, Никита Высоцкий, Елена Панова. Прекрасные артисты.
Премьера была под Новый год, на «Первом канале». Какие рейтинги были?
Я за этими вещами не слежу.
И наконец «Кеды» Сергея Александровича Соловьева.
Да, это последняя работа.
Я как раз вчера, готовясь к передаче, с большим удовольствием смотрел «Кеды». Но я вообще люблю кинематограф Соловьева. К этим работам вы сами писали сценарии? Или просто у вас выкупали права?
Они покупают права на экранизацию. Вы передаете права на экранизацию и права на сценарий. После этого либо сценариста нанимают, либо вы сами пишете.
Из этих работ вы к каким сами писали сценарии?
Все работы, кроме соловьевской. Сергей Александрович писал сценарий сам. Я так понимаю, что твердого сценария у него не было, он на площадке много сочинял. Он как Феллини работает, много импровизирует. Ему сценарист был не нужен.
А в тех случаях, когда вы писали, – сложно по своим вещам писать сценарий? Насколько это другое?
Это совершенно другой мир, совсем другая задача. Мне здесь помогал мой театральный, режиссерский опыт. Я прекрасно знал, что в драматургическом произведении самое главное – действие. И персонаж развивается за счет поступка. Не за счет авторского монолога, описания. Он может даже не говорить ничего, просто вы в кадре видите, что он что‑то делает. И если это действие развивает его характер – человек взял, собачку задушил, все, это уже черта характера. Взял, старушку перевел через дорогу – в другую сторону стал развиваться характер. Вы должны мыслить только поступками. И это трудновато, когда вы прозу переводите в действия.
Ну и там же объем еще. Нужно многое убирать из своего персонажа.
Да, да, да…
Жалко расставаться?
Нет, ничуть. Это же другое произведения совершенно. Я и к режиссерской вольности отношусь спокойно. Потому что книга – это одно. Это художественное произведение, оно закончилось, состоялось, переведено на ряд языков или получило какие‑то премии. Оно живет своей жизнью. Кино же – другая история. Не связанная с книгой, книга лишь дает адрес. А дальше киношники – а там уже много людей, это тут ты один ответственный, а там: и режиссер, и музыканты, и композитор, и редактора, даже осветители, я уж не говорю про артистов, каждый из которых – своя вселенная. И он каждый твой персонаж по‑своему видит. Это же все художники. И не иметь это в виду будет глупо. Писатели, которые бегают и следят очень внимательно, – они не очень далекие люди. Поверьте.
Ну, обычно авторы не недовольны…
Еще раз говорю: они недалекие.
Да. Но я думаю, вам тут еще помог ваш опыт с Васильевым.
Ну, конечно. Я прекрасно понимал, что и театр, и кинематография – это коллективное творчество, когда много талантливых людей. Действительно, возникают вопросы амбиций, тщеславий, честолюбий. Конфликты личностные – люди дерутся на площадке. И в театре. Люди напиваются, говорят друг другу гадости. В конце концов, спят друг с другом, там любовь возникает. И вы думаете, это никак не повлияет на изначальное произведение? Конечно, влияет. Оно начинает светиться по‑другому.
А «Кеды» вы уже увидели в готовом варианте?
Конечно. Поскольку здесь мастер высочайшего класса, я ничуть не сомневался и даже не собирался вмешиваться в процесс. Просто ждал, когда Сергей Александрович разрешит мне посмотреть монтажные версии.
А де это было? Он вас пригласил в какую‑то просмотровую?
Да. Были просмотровые. На «Мосфильме» он собрал друзей, всех, кто был причастен к картине. Пришел Василий Михайлович Вакуленко, он же Баста, мы с ним там и познакомились. Была Татьяна Друбич. И мы с удовольствием посмотрели эту картину.
Много от вашего рассказа осталось?
Остался основной сюжет. Я писал эту историю о том, как мой сын Борис уходил в армию, – остался сюжет проводов выпускника в армию, его двухдневного романа с некой парикмахершей, которая стригла его наголо. И остался мотив детей‑аутистов. У меня в рассказе она собирается сдать ребенка в приют, куда отдают детей‑аутистов, и мой герой говорит ей: «Мне бы такой парень пригодился, я бы его не отдал». Соловьеву это понравилось, он всю эту линию сохранил. У меня просто рассказ в более реалистичной манере, как «Жажда», написан, хотя и в форме блога – люди там разговаривают в социальной сети, разговор с комментами, мордочки они рисуют друг другу, эмоджи ставят. Перед Соловьевым стояла сложная задача – попытаться передать сложный мир молодежи в социальных сетях. Но он сделал это за счет своего очень поэтического мироощущения, строго соловьевского, – мягкости движения камеры, определенной пластики, нездешности персонажей, они такие, немного не от мира сего. И они удивительно милые, в них влюбляешься. И этот странный герой, которого играет Коля, забыл фамилию. Они все такие чудики. И вместе складываются в удивительно поэтическую прекрасную картину.
Конечно, кино получилось абсолютно соловьевское. И с самоцитатами…
Да, да, да. И Татьяна Друбич там мелькнула.
Там много параллелей и с «Ассой», и с «Черной розой – эмблемой печали…». Прекрасный фильм. Спасибо вам.
Спасибо Сергею Александровичу.
И ему, да. Ну что же, вернемся к литературе. Сколько вам было лет, когда проза появилась?
Тридцать два, может быть. Писать‑то я начал раньше. В 32 опубликовалась первая книжка.
А первая публикация на Проза.ру?
В тридцать.
Насколько вообще важен опыт для прозаика?
Он решающей роли не играет, но полезен. Решающую роль играет одно простое свойство – талант. Ну то есть надо пройти конкурс из 600 человек на место. С этим ничего не поделаешь. Это никто не отменял.
Но при этом есть же такое, что прозаики или поздно начинают, или такие, настоящие романы пишут, когда им уже за сорок. В отличие от поэтов…
Думаю, да. Самый лучший возраст для прозаика, думаю, – начиная с пятидесяти. Сейчас я вошел в свою полную синтаксическую силу. Я это ощущаю. И как историк литературы я знаю, что этот же период у Толстого и Достоевского был самым продуктивным. Это время «Анны Карениной», «Преступления и наказания», нет «Преступление» чуть раньше, а «Идиот» и «Братья Карамазовы» – это после пятидесяти, до шестидесяти. Когда мощь такая. Вот эту десяточку надо не прозевать. Но! На нее надо выйти очень грамотно. Вы к пятидесяти уже должны сложиться как мастер, у вас должен быть свой инструментарий, желательно уже написать романа три‑четыре, пусть они будут сырые – ничего страшного, работаем, движемся. И вот тогда к пятидесяти у вас будет… Во всяком случае я в себе определенную синтаксическую повествовательную силу ощущаю, какой раньше не было. И это произошло после пятидесяти лет.
Очень важная вещь, как мне кажется, прозвучала, что роман – первый, второй – может быть сырой. А то у многих опускаются руки…
Ни в коем случае. Ничего, что не получилось, не страшно. Если в нем были блестки таланта, это уже здорово. Ну, не взяли печатать – ничего страшного.
Скажем, «Бедные люди» – тоже не «Братья Карамазовы».
Конечно (подчеркивает). Согласитесь же? То есть когда «Братья» – это все уже! А там же «Неточка Незванова» была. Она может нравиться, в ней мы видим отголоски будущего Достоевского. Но только лишь намеки. Понимаете, да? Поэтому ни в коем случае нельзя ˂бросать˃. Я в этом смысле не понимаю авторов, которые, написав книгу, может быть, не сильно удачную, с ней сильно носятся и переживают. Лет 15‑20 ходят по издательствам, говорят: «Меня не поняли, я гений». Дружище, ну не поняли и не поняли. Садись, тут же пиши новую книгу. На третьей поймут. На пятой поймут. А замыкаться на одной вещи, в которой, ты думаешь, ты высказал соль жизни – а это у всякого автора есть такое заблуждение, что ты высказал всего себя и т. д., с этим заблуждением нужно бороться. Это неподвижная идея, которая влечет к бедности, к забвению и к полной депрессии. Нужно просто трудиться и идти дальше.
А как у вас получается? Вот вы завершаете роман, сразу начинаете следующий?
Сразу. У меня планов книг на пять сейчас в голове. Я просто раскидываю их, в каком году начну или продолжу ту или иную вещь. У меня есть отложенные вещи. Я вот очень долго обещаю Елене Шубиной роман «Время барабанов». Я прислал ей где‑то года два назад синопсис этой книги и первых глав пять‑шесть. И Лене очень понравилось. Она сказала, что хочет это издавать. Я сказал, что ок, но сейчас я занят вот этим. Я кино завершал, еще что‑то. Досняли кино, появился Соловьев, с Соловьевым надо по фестивалям ездить, представлять картину, что‑то говорить, много давать интервью. Снова занят. Потом появился роман о Невельском, который сейчас выходит. И я все откладываю. Но я вернусь к роману. Я Лене Шубиной обещаю, что я обязательно допишу его для нее.
А вернуться получается?
Конечно. Во‑первых, он живет. И я даже думаю, что настаивается, как вино хорошее. Во‑вторых, я думаю, что я прихожу к мастерству. Следовательно, роман «Время барабанов», вот сейчас говорю Лене Шубиной: «Лена, дорогая, если бы я его написал три года назад, он был бы хуже, чем если я напишу его через пять лет. Поверь». Я думаю, все только к лучшему. И параллельно, естественно, пишется сразу несколько вещей. Что‑то лежит на выдержке, что‑то сейчас пишется. Одновременно.
А бывает так, что начали роман и не по обстоятельствам прекратили, а почувствовали, что еще не время, и вот отложили.
Так произошло с «Временем барабанов».
То есть это не просто обстоятельства сложились.
Я же верующий человек. Я же вижу, если что‑то складывается, значит, оно складывается по чьей‑то воле. Очень важной для меня воле. Раз уж так получилось, я не парюсь. Если лифт сегодня сломан, значит, так надо, я всегда так считаю, идем пешком. Если для этого романа сейчас ситуация не складывается, значит, он и не должен сейчас писаться. Понимаете? Вселенная же с тобой разговаривает. Надо быть дураком, чтобы закрывать на это глаза.
А сколько в среднем вы пишете роман?
Сейчас писал про Невельского роман «Роза ветров», причем писал только его один. Он меня увлек и был для меня крайне важен. Скажем, полгода шла исследовательская работа, подготовительная, и полтора года чистого письма.
А в эти полгода, когда исследовательская работа, вы уже что‑то пишете?
Нет. Рождаются сцены, мотивы и персонажи. Я просто создаю некий файл и туда забрасываю идеи.
Вроде записной книжки писателя…
Да. На каждом романе у меня это называется по‑разному. На Невельском называлось – шкатулка. В итоге шкатулка получается страниц семьдесят. В ней наброски сцен, характеров и, в частности, там был даже финал. Буквально на третьей странице этой шкатулки. Получается, я в самом начале придумал финал.
«Роза ветров», ваш новый роман, выходит в ноябре. Правильно?
Да, совершенно верно. В издательстве «Городец».
Полтора года – это для вас было много?
Это самый короткий. Обычно роман пишется года четыре‑пять. «Степные боги» писались четыре года. Я параллельно работал в кино. То есть пишется сценарий, ты отвлекаешься, откладываешь роман на три месяца, на пять.
Отложили на три месяца, а потом сложно вернуться в текст?
Ты просто перечитываешь то, что написал до этого, и все.
Когда вы работаете над романом, у вас каждый день есть какое‑то время или количество знаков, которое вы пишете?
Количество знаков. До недавнего времени это было 2000 знаков, обязательных, ежедневных. Сейчас это пять‑шесть <тысяч>. Это мне нравится больше. Две ˂тысячи˃ – это чуть больше, чем книжная страница. То есть ты даешь себе зарок: я сегодня сделаю страницу книги. У меня поэтому было две тысячи довольно долго. Но потом я заметил одну штуку – когда я пишу всего лишь две тысячи знаков, я слишком вожусь с текстом. Я его слишком долго мну, переделываю, много с синтаксисом мучаюсь. И от этого уходит первая свежесть впечатления удара молнии в тебя в момент вдохновения. Признаюсь, я у Толстого в дневниках это прочитал. Он просто писал, как черновик, сразу все, что бог на душу положит. Я так понимаю, он мог до 15 тысяч в день выдать. А потом, через какое‑то время, он возвращался к этому и переписывал. Но имея уже некую черновую структуру, понимаете? А я же, поскольку перфекционист и кандидат наук, мне сразу надо было выдать текст. Вот сразу такой, который к публикации готов. Сейчас я перестал это делать и пишу пять‑шесть тысяч, иногда восемь… То есть быстрее получается и, мне кажется, это для текста продуктивнее. Если ты возишься с ним слишком долго, ты его засушиваешь.
Тут тоже есть момент, когда расписался – становится проще…
Конечно. Ты расписался, и оно идет. Тебя прет.
А по времени сколько в день выходит?
Часа полтора‑два.
Довольно немного.
Я быстро работаю.
А есть любимое время? Там, утро, ночь…
Утро. Утро относительно того, когда ты проснулся. Это может быть два часа дня, но это утро, поскольку…
Свежий…
Важно, что ты проснулся, позавтракал. Вот я только тогда пишу. Но иногда я пишу в две базы – такой, бейсбольный термин у меня рабочий. Знаете, в бейсболе – добежать до первой базы, добежать до второй. Иногда ты пишешь, и не идет. И говоришь: так, все, добежал до первой базы. Собираешься, идешь в лес, не знаю, на велосипед садишься, купаться едешь. Я в лесу живу, у меня озеро рядом. Искупался, поплавал, в магазин сходил, поел, телевизор посмотрел. Потом – вторая база. Включаешь и заходишь – иногда получается. Процентах в сорока вторая база получается даже лучше, чем первая.
То есть важный момент – не пошло что‑то, пойти погулять.
Не пошло – остановись. Раз не пошло, значит, есть на то причины. Или ты ошибку в тексте допускаешь, или Господь не хочет сейчас.
А, это важный момент. То есть не идет – есть причина.
Надо довериться течению, потоку, в котором ты находишься. Я доверяюсь полностью.
У вас прекрасная семья, трое детей. Когда вы пишете, домашние вас должны не трогать, пока вы там, в кабинете?
Раньше так было, когда дети были маленькие, и мы все жили вместе. Сейчас они все уже отдельно живут, у них свои семьи. Но раньше – да. Первые вещи я писал в ванной комнате, запираясь. Я туда заносил такое кресло, сюда (показывает, куда) я себе клал стиральную доску, такая рифленая, знаете? У нас не было стиральной машинки. Я был очень бедный. На доску клалась виниловая пластинка и сверху лист бумаги А4. Когда им было надо, они стучали: «Папа, мы писать хотим» (детским голосом). Я останавливался – пожалуйста. Так было в начале. Сейчас – нет, все живут отдельно.
Сочиняли вы от руки. Потом на компьютер перешли?
Да. Тогда, это было начало 90‑х, не было у меня компьютера. Это было для меня слишком дорого. Я был университетский профессор, мало получал.
Но сейчас уже пишете за компьютером?
От руки я уже не пишу больше. Но чаще даже, наверное, в телефон. Он просто чаще со мной. В дороге пишу, в самолетах. Мне не важно место. Я пишу везде. Это обязательно. Если у меня пропущены дни рабочие, это неприятно, какое‑то негигиеническое состояние. Как будто руки не помыл перед едой. А ездить приходится много. Ты приезжаешь в другую страну, сидишь, все равно пишешь в номере.
У нас же все играли всё. Мы играли отрывочки, каждый делал отрывочек, и потом Васильев из этих отрывков делал большой показ. И поэтому у нас могло быть десять князей Мышкиных. Они просто выходили, менялись. Один эту сцену, другой – эту.
Понятно. И вот вы закончили. Это какой год уже?
1991-93 год. Я помню, когда на репетиции ездили, троллейбус лежал на боку, сожженный. То есть тут революция только что прошла. Мы едем в театр – лежит на боку сгоревший троллейбус. Было весело.
И что дальше? Вы с театром?
Нет. Я завершил театральную карьеру. Потому что к пятому курсу случилось то, что Васильев пророчил на первом. Он нам сказал еще на первом курсе: «Любите театр?» Мы сказали: «Да! Очень! Обожаем театр». Он: «К пятому курсу возненавидите». В моем случае оказался прав. Когда закончилось обучение и мастер предложил сказать свои пожелания, кто остается, а кто уходит, я сказал: «Я уезжаю обратно в Якутск». И уехал.
И снова продолжили преподавать?
Совершенно верно. Я вернулся в университет. Потому что к этому моменту я уже ничего, кроме бессмысленного времяпрепровождения, в театре не видел.
А как зритель? Продолжали куда‑то ходить? Или вам вообще сам театр стал…
Да, сама идея театра мне не нравится. Мне не нравится, когда люди собираются в одном месте и развлекаются. Я не хожу на митинги, на стадионы, в кинотеатры иногда хожу.
И, соответственно, драматургию, пьесы вы потом не писали?
Я пишу сценарии. Но сценарии строго по своим произведениям.
Да, как раз хочу задать вопрос. С театром у вас, значит, не сложился роман, вы его возненавидели по пророчеству Васильева. А с кинематографом у вас прекраснейшие отношения.
С кино – да.
Как начиналось все?
Опять же Проза.ру, я думаю, сыграла тут свою роль. Мне написали письмо из Киева, редакторы, продюсеры Роднянского, тогда он руководил каналом «1+1» в Киеве. До всех этих печальных событий. Украина тогда была нашим большим другом. Они написали: «Нам очень нравится ваш роман „Год обмана". Не могли бы вы приехать к нам в Киев и познакомиться с Роднянским на предмет переговоров о экранизации? – И самое важное для начинающего автора: – Мы вам оплатим проезд и проживание в гостинице». Я подумал: «Надо же, мне оплачивают проезд до Киева и проживание. И еще, может быть, у меня что‑то купят».
Хороший русский язык до Киева доведет.
Вот. В данном случае язык до Киева довел (улыбаются). Я поехал в Киев. Действительно, редактора сказали: «Мы читаем Проза.ру. Нашли ваш роман „Год обмана". Хотим его экранизировать». Собственно говоря, первое знакомство с кинематографическими людьми, продюсерами у меня произошло из‑за Проза.ру.
С «Годом обмана» интересная же получилась ситуация, что вышел и фильм, и сериал.
Совершенно верно. Есть полнометражная история. Ее снимал Саша Котт. Он снимал полнометражную версию с Алексеем Чадовым и Екатериной Вилковой. А сериал снимал Дмитрий Тюрин спустя лет пять после той истории. И там играют другие актеры. Нынче замечательная звездочка Юлия Хлынина, которая в «Дуэлянте» играла. Она у нас играет Марину вместо Кати Вилковой. А вместо Алексея Чадова играет Сережа Чирков. Тоже хороший артист. В первом полнометражном у нас еще был Симонов, замечательный артист, он играл старшего героя, отца моего персонажа.
Потом была «Жажда»?
Вы имеете в виду в кино?
Да, экранизацию.
Да. После «Года обмана» мы сделали «Жажду». Сразу же после того, как я написал сценарий для кинокомпании «РВС», они же предложили мне экранизировать «Жажду». Буквально сразу. Я начал писать сценарий в тот же год. Он довольно долго не снимался, года два‑три. Но потом получил господдержку, его представили в Фонд кино. Там он получил определенные деньги и на эти деньги был снят.
Потом сериал «Дом на Озерной».
Да, сериал с замечательными артистами – Василий Лановой, Ирина Купченко, Никита Высоцкий, Елена Панова. Прекрасные артисты.
Премьера была под Новый год, на «Первом канале». Какие рейтинги были?
Я за этими вещами не слежу.
И наконец «Кеды» Сергея Александровича Соловьева.
Да, это последняя работа.
Я как раз вчера, готовясь к передаче, с большим удовольствием смотрел «Кеды». Но я вообще люблю кинематограф Соловьева. К этим работам вы сами писали сценарии? Или просто у вас выкупали права?
Они покупают права на экранизацию. Вы передаете права на экранизацию и права на сценарий. После этого либо сценариста нанимают, либо вы сами пишете.
Из этих работ вы к каким сами писали сценарии?
Все работы, кроме соловьевской. Сергей Александрович писал сценарий сам. Я так понимаю, что твердого сценария у него не было, он на площадке много сочинял. Он как Феллини работает, много импровизирует. Ему сценарист был не нужен.
А в тех случаях, когда вы писали, – сложно по своим вещам писать сценарий? Насколько это другое?
Это совершенно другой мир, совсем другая задача. Мне здесь помогал мой театральный, режиссерский опыт. Я прекрасно знал, что в драматургическом произведении самое главное – действие. И персонаж развивается за счет поступка. Не за счет авторского монолога, описания. Он может даже не говорить ничего, просто вы в кадре видите, что он что‑то делает. И если это действие развивает его характер – человек взял, собачку задушил, все, это уже черта характера. Взял, старушку перевел через дорогу – в другую сторону стал развиваться характер. Вы должны мыслить только поступками. И это трудновато, когда вы прозу переводите в действия.
Ну и там же объем еще. Нужно многое убирать из своего персонажа.
Да, да, да…
Жалко расставаться?
Нет, ничуть. Это же другое произведения совершенно. Я и к режиссерской вольности отношусь спокойно. Потому что книга – это одно. Это художественное произведение, оно закончилось, состоялось, переведено на ряд языков или получило какие‑то премии. Оно живет своей жизнью. Кино же – другая история. Не связанная с книгой, книга лишь дает адрес. А дальше киношники – а там уже много людей, это тут ты один ответственный, а там: и режиссер, и музыканты, и композитор, и редактора, даже осветители, я уж не говорю про артистов, каждый из которых – своя вселенная. И он каждый твой персонаж по‑своему видит. Это же все художники. И не иметь это в виду будет глупо. Писатели, которые бегают и следят очень внимательно, – они не очень далекие люди. Поверьте.
Ну, обычно авторы не недовольны…
Еще раз говорю: они недалекие.
Да. Но я думаю, вам тут еще помог ваш опыт с Васильевым.
Ну, конечно. Я прекрасно понимал, что и театр, и кинематография – это коллективное творчество, когда много талантливых людей. Действительно, возникают вопросы амбиций, тщеславий, честолюбий. Конфликты личностные – люди дерутся на площадке. И в театре. Люди напиваются, говорят друг другу гадости. В конце концов, спят друг с другом, там любовь возникает. И вы думаете, это никак не повлияет на изначальное произведение? Конечно, влияет. Оно начинает светиться по‑другому.
А «Кеды» вы уже увидели в готовом варианте?
Конечно. Поскольку здесь мастер высочайшего класса, я ничуть не сомневался и даже не собирался вмешиваться в процесс. Просто ждал, когда Сергей Александрович разрешит мне посмотреть монтажные версии.
А де это было? Он вас пригласил в какую‑то просмотровую?
Да. Были просмотровые. На «Мосфильме» он собрал друзей, всех, кто был причастен к картине. Пришел Василий Михайлович Вакуленко, он же Баста, мы с ним там и познакомились. Была Татьяна Друбич. И мы с удовольствием посмотрели эту картину.
Много от вашего рассказа осталось?
Остался основной сюжет. Я писал эту историю о том, как мой сын Борис уходил в армию, – остался сюжет проводов выпускника в армию, его двухдневного романа с некой парикмахершей, которая стригла его наголо. И остался мотив детей‑аутистов. У меня в рассказе она собирается сдать ребенка в приют, куда отдают детей‑аутистов, и мой герой говорит ей: «Мне бы такой парень пригодился, я бы его не отдал». Соловьеву это понравилось, он всю эту линию сохранил. У меня просто рассказ в более реалистичной манере, как «Жажда», написан, хотя и в форме блога – люди там разговаривают в социальной сети, разговор с комментами, мордочки они рисуют друг другу, эмоджи ставят. Перед Соловьевым стояла сложная задача – попытаться передать сложный мир молодежи в социальных сетях. Но он сделал это за счет своего очень поэтического мироощущения, строго соловьевского, – мягкости движения камеры, определенной пластики, нездешности персонажей, они такие, немного не от мира сего. И они удивительно милые, в них влюбляешься. И этот странный герой, которого играет Коля, забыл фамилию. Они все такие чудики. И вместе складываются в удивительно поэтическую прекрасную картину.
Конечно, кино получилось абсолютно соловьевское. И с самоцитатами…
Да, да, да. И Татьяна Друбич там мелькнула.
Там много параллелей и с «Ассой», и с «Черной розой – эмблемой печали…». Прекрасный фильм. Спасибо вам.
Спасибо Сергею Александровичу.
И ему, да. Ну что же, вернемся к литературе. Сколько вам было лет, когда проза появилась?
Тридцать два, может быть. Писать‑то я начал раньше. В 32 опубликовалась первая книжка.
А первая публикация на Проза.ру?
В тридцать.
Насколько вообще важен опыт для прозаика?
Он решающей роли не играет, но полезен. Решающую роль играет одно простое свойство – талант. Ну то есть надо пройти конкурс из 600 человек на место. С этим ничего не поделаешь. Это никто не отменял.
Но при этом есть же такое, что прозаики или поздно начинают, или такие, настоящие романы пишут, когда им уже за сорок. В отличие от поэтов…
Думаю, да. Самый лучший возраст для прозаика, думаю, – начиная с пятидесяти. Сейчас я вошел в свою полную синтаксическую силу. Я это ощущаю. И как историк литературы я знаю, что этот же период у Толстого и Достоевского был самым продуктивным. Это время «Анны Карениной», «Преступления и наказания», нет «Преступление» чуть раньше, а «Идиот» и «Братья Карамазовы» – это после пятидесяти, до шестидесяти. Когда мощь такая. Вот эту десяточку надо не прозевать. Но! На нее надо выйти очень грамотно. Вы к пятидесяти уже должны сложиться как мастер, у вас должен быть свой инструментарий, желательно уже написать романа три‑четыре, пусть они будут сырые – ничего страшного, работаем, движемся. И вот тогда к пятидесяти у вас будет… Во всяком случае я в себе определенную синтаксическую повествовательную силу ощущаю, какой раньше не было. И это произошло после пятидесяти лет.
Очень важная вещь, как мне кажется, прозвучала, что роман – первый, второй – может быть сырой. А то у многих опускаются руки…
Ни в коем случае. Ничего, что не получилось, не страшно. Если в нем были блестки таланта, это уже здорово. Ну, не взяли печатать – ничего страшного.
Скажем, «Бедные люди» – тоже не «Братья Карамазовы».
Конечно (подчеркивает). Согласитесь же? То есть когда «Братья» – это все уже! А там же «Неточка Незванова» была. Она может нравиться, в ней мы видим отголоски будущего Достоевского. Но только лишь намеки. Понимаете, да? Поэтому ни в коем случае нельзя ˂бросать˃. Я в этом смысле не понимаю авторов, которые, написав книгу, может быть, не сильно удачную, с ней сильно носятся и переживают. Лет 15‑20 ходят по издательствам, говорят: «Меня не поняли, я гений». Дружище, ну не поняли и не поняли. Садись, тут же пиши новую книгу. На третьей поймут. На пятой поймут. А замыкаться на одной вещи, в которой, ты думаешь, ты высказал соль жизни – а это у всякого автора есть такое заблуждение, что ты высказал всего себя и т. д., с этим заблуждением нужно бороться. Это неподвижная идея, которая влечет к бедности, к забвению и к полной депрессии. Нужно просто трудиться и идти дальше.
А как у вас получается? Вот вы завершаете роман, сразу начинаете следующий?
Сразу. У меня планов книг на пять сейчас в голове. Я просто раскидываю их, в каком году начну или продолжу ту или иную вещь. У меня есть отложенные вещи. Я вот очень долго обещаю Елене Шубиной роман «Время барабанов». Я прислал ей где‑то года два назад синопсис этой книги и первых глав пять‑шесть. И Лене очень понравилось. Она сказала, что хочет это издавать. Я сказал, что ок, но сейчас я занят вот этим. Я кино завершал, еще что‑то. Досняли кино, появился Соловьев, с Соловьевым надо по фестивалям ездить, представлять картину, что‑то говорить, много давать интервью. Снова занят. Потом появился роман о Невельском, который сейчас выходит. И я все откладываю. Но я вернусь к роману. Я Лене Шубиной обещаю, что я обязательно допишу его для нее.
А вернуться получается?
Конечно. Во‑первых, он живет. И я даже думаю, что настаивается, как вино хорошее. Во‑вторых, я думаю, что я прихожу к мастерству. Следовательно, роман «Время барабанов», вот сейчас говорю Лене Шубиной: «Лена, дорогая, если бы я его написал три года назад, он был бы хуже, чем если я напишу его через пять лет. Поверь». Я думаю, все только к лучшему. И параллельно, естественно, пишется сразу несколько вещей. Что‑то лежит на выдержке, что‑то сейчас пишется. Одновременно.
А бывает так, что начали роман и не по обстоятельствам прекратили, а почувствовали, что еще не время, и вот отложили.
Так произошло с «Временем барабанов».
То есть это не просто обстоятельства сложились.
Я же верующий человек. Я же вижу, если что‑то складывается, значит, оно складывается по чьей‑то воле. Очень важной для меня воле. Раз уж так получилось, я не парюсь. Если лифт сегодня сломан, значит, так надо, я всегда так считаю, идем пешком. Если для этого романа сейчас ситуация не складывается, значит, он и не должен сейчас писаться. Понимаете? Вселенная же с тобой разговаривает. Надо быть дураком, чтобы закрывать на это глаза.
А сколько в среднем вы пишете роман?
Сейчас писал про Невельского роман «Роза ветров», причем писал только его один. Он меня увлек и был для меня крайне важен. Скажем, полгода шла исследовательская работа, подготовительная, и полтора года чистого письма.
А в эти полгода, когда исследовательская работа, вы уже что‑то пишете?
Нет. Рождаются сцены, мотивы и персонажи. Я просто создаю некий файл и туда забрасываю идеи.
Вроде записной книжки писателя…
Да. На каждом романе у меня это называется по‑разному. На Невельском называлось – шкатулка. В итоге шкатулка получается страниц семьдесят. В ней наброски сцен, характеров и, в частности, там был даже финал. Буквально на третьей странице этой шкатулки. Получается, я в самом начале придумал финал.
«Роза ветров», ваш новый роман, выходит в ноябре. Правильно?
Да, совершенно верно. В издательстве «Городец».
Полтора года – это для вас было много?
Это самый короткий. Обычно роман пишется года четыре‑пять. «Степные боги» писались четыре года. Я параллельно работал в кино. То есть пишется сценарий, ты отвлекаешься, откладываешь роман на три месяца, на пять.
Отложили на три месяца, а потом сложно вернуться в текст?
Ты просто перечитываешь то, что написал до этого, и все.
Когда вы работаете над романом, у вас каждый день есть какое‑то время или количество знаков, которое вы пишете?
Количество знаков. До недавнего времени это было 2000 знаков, обязательных, ежедневных. Сейчас это пять‑шесть <тысяч>. Это мне нравится больше. Две ˂тысячи˃ – это чуть больше, чем книжная страница. То есть ты даешь себе зарок: я сегодня сделаю страницу книги. У меня поэтому было две тысячи довольно долго. Но потом я заметил одну штуку – когда я пишу всего лишь две тысячи знаков, я слишком вожусь с текстом. Я его слишком долго мну, переделываю, много с синтаксисом мучаюсь. И от этого уходит первая свежесть впечатления удара молнии в тебя в момент вдохновения. Признаюсь, я у Толстого в дневниках это прочитал. Он просто писал, как черновик, сразу все, что бог на душу положит. Я так понимаю, он мог до 15 тысяч в день выдать. А потом, через какое‑то время, он возвращался к этому и переписывал. Но имея уже некую черновую структуру, понимаете? А я же, поскольку перфекционист и кандидат наук, мне сразу надо было выдать текст. Вот сразу такой, который к публикации готов. Сейчас я перестал это делать и пишу пять‑шесть тысяч, иногда восемь… То есть быстрее получается и, мне кажется, это для текста продуктивнее. Если ты возишься с ним слишком долго, ты его засушиваешь.
Тут тоже есть момент, когда расписался – становится проще…
Конечно. Ты расписался, и оно идет. Тебя прет.
А по времени сколько в день выходит?
Часа полтора‑два.
Довольно немного.
Я быстро работаю.
А есть любимое время? Там, утро, ночь…
Утро. Утро относительно того, когда ты проснулся. Это может быть два часа дня, но это утро, поскольку…
Свежий…
Важно, что ты проснулся, позавтракал. Вот я только тогда пишу. Но иногда я пишу в две базы – такой, бейсбольный термин у меня рабочий. Знаете, в бейсболе – добежать до первой базы, добежать до второй. Иногда ты пишешь, и не идет. И говоришь: так, все, добежал до первой базы. Собираешься, идешь в лес, не знаю, на велосипед садишься, купаться едешь. Я в лесу живу, у меня озеро рядом. Искупался, поплавал, в магазин сходил, поел, телевизор посмотрел. Потом – вторая база. Включаешь и заходишь – иногда получается. Процентах в сорока вторая база получается даже лучше, чем первая.
То есть важный момент – не пошло что‑то, пойти погулять.
Не пошло – остановись. Раз не пошло, значит, есть на то причины. Или ты ошибку в тексте допускаешь, или Господь не хочет сейчас.
А, это важный момент. То есть не идет – есть причина.
Надо довериться течению, потоку, в котором ты находишься. Я доверяюсь полностью.
У вас прекрасная семья, трое детей. Когда вы пишете, домашние вас должны не трогать, пока вы там, в кабинете?
Раньше так было, когда дети были маленькие, и мы все жили вместе. Сейчас они все уже отдельно живут, у них свои семьи. Но раньше – да. Первые вещи я писал в ванной комнате, запираясь. Я туда заносил такое кресло, сюда (показывает, куда) я себе клал стиральную доску, такая рифленая, знаете? У нас не было стиральной машинки. Я был очень бедный. На доску клалась виниловая пластинка и сверху лист бумаги А4. Когда им было надо, они стучали: «Папа, мы писать хотим» (детским голосом). Я останавливался – пожалуйста. Так было в начале. Сейчас – нет, все живут отдельно.
Сочиняли вы от руки. Потом на компьютер перешли?
Да. Тогда, это было начало 90‑х, не было у меня компьютера. Это было для меня слишком дорого. Я был университетский профессор, мало получал.
Но сейчас уже пишете за компьютером?
От руки я уже не пишу больше. Но чаще даже, наверное, в телефон. Он просто чаще со мной. В дороге пишу, в самолетах. Мне не важно место. Я пишу везде. Это обязательно. Если у меня пропущены дни рабочие, это неприятно, какое‑то негигиеническое состояние. Как будто руки не помыл перед едой. А ездить приходится много. Ты приезжаешь в другую страну, сидишь, все равно пишешь в номере.

Бывает даже, наоборот – гостиница, самолет, смена обстановки даже помогают.
Да, бывает даже лучше. Меня только горничные ненавидят. Они стучат все время, надо им убирать. Они же привыкли: человек в Париж приехал, в Рим, Нью‑Йорк, он вроде как должен позавтракать и уйти осматривать достопримечательности. А этот странный русский сидит в номере почему‑то. Выходит только вечером и только до бара, выпить немного виски.
Это ж Хемингуэй любил, в шесть утра вставал, писал и говорил, что вечером обязательно надо выпить, иначе эти персонажи тебя сведут с ума.
Да. Залакировать надо.
А какими напитками предпочитаете?
Разными. Последнее время вино красное пью в основном. Скотч мне очень нравится односолодовый.
Отлично. Тогда у меня будет для вас подарок. Скажите, вы переведены на многие языки мира – английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, болгарский, эстонский, маратхи, иврит и другие языки. На какой язык был первый перевод, помните?
Французский. Французы появились первые. Сначала повесть «Жажда» имела какой-то успех, и потом уже французы купили все книги.
И вы на Парижском книжном салоне были признаны самым популярным во Франции российским писателем. То есть вы обогнали всех‑всех наших…
Так было. Да.
А перевод на какой из этих языков был для вас особенно приятным, дорогим?
Я выделил для себя перевод на эстонский. Появился какой‑то человек из Эстонии, написал из Таллинна. И я же понимаю, что мы не дружественно расстались с Прибалтикой. И вдруг у них желание современного русского автора перевести. Я был горд. Они же думали, какую книгу выбрать, понимали, что популярностью она вряд ли будет пользоваться. Не секрет, что нас не любят в Прибалтике. И то, что они обратились именно ко мне, для меня это было важно. Но мне нравятся, разумеется, американские переводы. Потому что попасть на американский рынок – крайне сложно. Практически невозможно.
Причем вы по рейтингу Амазона входили в топ, или как это называется?
В прошлом декабре «Холод» один месяц простоял в первой пятерке прода – скачиваний на Амазоне. Я был повыше, чем Стивен Кинг и Джоан Роулинг. Это было смешно – видеть свою книгу выше «Гарри Поттера».
Это круто!
В продажах причем.
Хотел по поводу ярмарок узнать. Ярмарок много – Франкфурт, Лейпциг, Варшава, Париж, Будапешт, Женева, Нью‑Йорк, Барселона, Лондон – какая самая крутая? Где было интереснее всего?
Они очень похожи. Очень милая в Женеве. В Швейцарии очень хороший книжный салон. Парижский книжный салон прекрасен. Они действительно собирают очень много авторов со всего мира. И, помимо Парижского салона, во Франции еще очень много выставок региональных. И везде это очень мило, по‑домашнему. Французы умеют по‑домашнему делать – много вина, сыра, много веселых хороших знакомств, хорошие люди, красивые женщины. В Нью‑Йорке, Bookexpo в Америке впечатляет имперской мощью. Она очень похожа на наши ярмарки. В силу ощущения огромной страны. И американцы очень эффективны. Если во Франции и опоздания бывают, все как‑то так томно, то в Америке все очень четко – за тобой вовремя приехала машина и т. д. Франкфурт не очень люблю, это скучный город. Он был разбомблен во Вторую мировую войну и весь – новодел, Люберцы напоминает. Сам город скучный, в нем гулять неинтересно. Нью‑Йорк прикольный, там есть корейский квартал смешной, там еда вкусная.
А наша ММКВЯ ближе к нью‑йоркцам?
Пожалуй, да. Наши ярмарки похожи на американские. Они такие, как бы сказать, бизнес‑лайк. У них больше делового контента, они не хотят с вами заигрывать, не хотят быть милыми, как, например, очень провинциальная мадридская ярмарка.
Кстати о деньгах. А с какого тиража автор в России уже может оставить все и жить только литературой?
С тиража? Ну, я думаю, тысяч пятьдесят, наверное, надо. Да, тысяч пятьдесят надо продать. И тогда это будет немного. Во всяком случае, я бы не прожил на литературные заработки. Все‑таки я зарабатываю основное содержание своей семьи в кино. Сценарная работа оплачивается лучше, чем писать романы. Романы в России – это все‑таки такое прекрасное приятное хобби.
А если 50 тысяч, как часто надо издавать новый роман?
Я думаю, раз в полтора года. Раз в год даже лучше. Но тогда вы неизбежно склоняетесь к жанру. Вы уходите из внежанрового пространства серьезной литературы, и тогда – новый стахановец такой. Пишете либо детективы, либо фантастику, фэнтези. Но там тоже очень высококонкурентный рынок. Пробиться не так просто.
Как про Пелевина, которого, как я понимаю, вы не очень любите…
Не то что не люблю, я равнодушен. Человек занимается чем‑то важным для него и большого отряда его поклонников. Я очень рад, что существуют эти люди, эта индустрия…
Пелевин, Сорокин явно вам не близки.
Не близки. Мне вообще постмодерн не близок в принципе. Он оставляет меня совершенно равнодушным.
А есть ощущение, что он уже давно закончился?
Не знаю. Поскольку он оставляет меня равнодушным, я не слежу за его судьбой. Кому‑то это нравилось. Я помню, мои студенты с огромным восторгом мне говорили: «Андрей Валерьевич, почитайте Пелевина». Я прочитал «Generation П», честно прочитал. Ну, такая книга. Много абсурда. Но это было уже все. Выдавать это за новое мне, историку литературы, который изучил это все еще при Беккете, в 50‑60‑е годы, ну… это не ново. И юмор этот не нов. Даниил Хармс был в конце концов еще до всякого Беккета и Ионеско. Я понимаю, что и реализм тоже был. Возражение приемлю. Но дело в том, что он отражает жизнь. А жизнь‑то, она всегда разная.
А вам самому как историку литературы не тяжело быть писателем? Начинаете что‑то писать или задумка, и мысль – а вот это уже было. Такое вам не мешает самому?
Этот груз присутствует. Конечно. Все‑таки я профессиональный литературовед. Но мне кажется, он как раз помогает не очень повторяться. То есть когда я свежак придумываю, я знаю: это свежак. И мое образование мне помогает это понять. Когда присылают рукописи, а начинающие авторы часто пишут мне, я читаю – поскольку Олег Павлов прочитал мою рукопись, я также в ответ читаю рукописи начинающих авторов. Для них‑то это откровение. Они говорят: «Смотри, как я круто придумал». Я говорю: «Да. Но так было, дружище».
Вы зря это сказали. У нас аудитория большая, все пишущие, вас сейчас завалят (улыбается). Так, постмодерн не близок, Сорокин, Пелевин не близки. А кто из наших современных авторов близок?
Дело в том, что я не очень много читаю. Даже совсем практически не читаю. Скажем так, я читал до тех пор, пока не перешел в фазу активного письма. Тогда мне было очень любопытно, интересно. Но когда вы переходите в фазу своего письма активного, то оптика меняется. Собственно говоря, вы уже строитель. Вы все время ищете, где кирпичик лежит, куда балочку поставим… И в этом смысле просто прийти и смотреть на чужое здание у тебя: а) нет времени, б) ты точно бы построил по‑другому, сто процентов. Я читаю. Мне говорят: «Вот, хороший роман». Я читаю главу и как литературовед я точно могу сказать, что хорошо, а что плохо. И я говорю: «Друзья, вот это у вас очень талантливый парень». И все, дальше я просто не читаю. Поставить диагноз я могу, да.
Вы как‑то в интервью сказали, цитируя Васильева, – ирония деструктивна.
Совершенно верно. Это он сказал.
Я тогда стал прикидывать. Может быть, Водолазкин вам может быть близок. Нет?
Я не читал его. Пока не читал. Мне очень понравилось из последнего прочтенного начало книги Марины Степновой «Женщины Лазаря». Блестящая экспозиция. Она точно держит слог. Она хороший, плотный писатель. Внегендерный. Нельзя сказать, что это женская проза. Это просто писатель и все. Думаю, что Водолазкин, наверное, тоже замечательный писатель, потому что о нем много говорят. Просто пока не доводилось.
Насколько важен язык для писателя? В одном интервью вы тоже приводили слова про Набокова, что он стал заложником собственного стиля.
Это сказал о нем Исаак Башевис-Зингер. Он сказал: «Набоков – жертва собственного стиля».
Меня всегда мучает этот вопрос: где грань? С одной стороны, понятно, что написано должно быть хорошо. Ну, потому что если плохо написано – это не литература. Но где та грань, что ты настолько уже хорошо пишешь, что становишься жертвой?
Если интерпретировать слова Исаака Башевис‑Зингера, замечательного писателя и нобелевского лауреата, о Набокове, то я бы сказал, что он имел в виду, что Набоков попался в итоге в ту ловушку, которую я избежал, когда перестал писать 2000 знаков в день. Я думаю, что Набоков делал 500 знаков в день. И он выдрючивался. Сидел и для каждого феномена искал метафору или эпитет. Сложный. Сложносочиненный. И все его творчество превращалось в игру – игру в эпитеты. Игра в бисер. Мы вот выложили, смотрите, как красиво у нас лежат бусинки. А вся картина нас уже не очень‑то интересует. В то время как Исаак Башевис‑Зингер имел в виду, что писатель все‑таки рассказывает историю. От которой человек либо заплачет, либо засмеется, либо подумает о своей жизни и подумает: все не так плохо. Я умаю, что Исаак Башевис‑Зингер имел в виду простую вещь: будь проще, и люди потянутся к вам.
Ну а если взять всю историю литературы, какие ваши любимые писатели? Кого бы вы назвали в первую очередь?
Очень много. Гомер, Сервантес, Шекспир, их же много. Ты читаешь и влюбляешься в этого. Фолкнер для меня очень большую роль играл. Естественно, Лев Толстой. Просто огромная часть моей жизни. Достоевский. Люди делятся на тех, кто любит Толстого и Достоевского. Я люблю обоих, легко читаю обоих. Восхищаюсь разницей между ними. Грущу от того, что Толстой отказался знакомиться с Федором Михайловичем. Прошел мимо него. Мне Игорь Волгин однажды рассказал эту историю. Достоевскому сказали, что Толстой согласен с ним познакомиться. Назначили встречу в каком‑то месте. Вечеринка, все гости в комнате, а Толстого все нет – ну, задерживается, граф. И Федор Михайлович все нервничал, нервничал, потом ушел в прихожую и сел. Рядом с пальто, с шубами. Тут входит Толстой. Увидел Достоевского, узнал (подчеркивает) и прошел дальше. Не знаю, почему. Может, думал, что потом представят. Или: почему он здесь сидит? Федор Михайлович посидел, посидел, встал, вышел и ушел. Встреча не состоялась. Вот я от этого грущу, например. Два титана, причем не русской ведь литературы – мировой (говорит особенно). И я грущу, что так получилось.
У Игоря Волгина есть теория, что прошлый век был веком Достоевского, а сейчас – век Толстого.
Это любопытно. Я не слышал это от него. Но я его очень уважаю, он очень умный человек, просто так‑то не скажет. Похоже на то, да. Хотя вот эта вихреобразность Достоевского – Бахтин ее определил как оргиастичность – вот эта оргиастичность есть все‑таки и в современных текстах. Я у некоторых ребят ее вижу. Такая неаккуратность в синтаксисе, торопливость, затакт, зашаг – еще, еще, я не успею рассказать все – из‑за этого получается громоздкая структура, полная страсти и огня. Я все‑таки иногда это вижу, это бывает. Хотя я сам тяготею к аполлонической гармонии Толстого. У меня Невельской сейчас написан в этой структуре. «Степные боги» я писал в таком гармоничном синтаксисе.
Кстати, в «Степных богах» это выдуманное село…
Разгуляевка.
Да. Есть в этом какой‑то привет от Фолкнера?
Естественно, да, Йокнапатофа, самогонщики, контрабандисты. Конечно. Сама эта деревенская густая жизнь, да, Фолкнер сильно повлиял на меня. В свое время на него влиял Достоевский. Был Достоевский, Фолкнер, потом это ко мне пришло. Связи генетические существуют очень крепкие.
Еще где‑то среди любимых авторов вы называли Хемингуэя.
Да, в юности я, как и все мы, зачитывался Хемингуэем. И до сих пор считаю «Старика и море» замечательным произведением. Другие романы – не знаю, может быть, спорно. Но «Старик и море» – это сила.
Вы это все читали в оригинале?
Угу.
Вам знание языка позволяет. Есть же хорошая шутка про то, что современную русскую литературу во многом определила Райт‑Ковалева. Которая всех переводила (смеются).
Английскую, да, американскую.
А Оскар Уайльд был выбран вами…
Он был выбран из‑за Васильева. Он на третьем или четвертом курсе принес нам, сказал: «Делайте диалоги». У него есть эстетические диалоги про то, что люди разучились врать. Художественно врать прекрасно. Там два героя сидят и все время говорят об искусстве. И мы делали такой спектакль. И когда я уже бросил театр, ушел и решил писать диссертацию, идти по академической стезе, то я своему научному руководителю сказал: «Я бы хотел писать про Оскара Уайльда. Я его репетировал полтора года, я просто знаю тексты хорошо» (улыбается).
Понятно. Ну а театральные подмостки, как говорят, кто почувствовал тот запах кулис, тот обязательно…
Тот нюхает его до сих пор. Нет, я не токсикоман в этом смысле оказался. Я от скотча отказаться не могу, а от театра – легко.
Как я уже говорил, многие наши зрители – сами люди пишущие, публикующие свои произведения на Проза.ру, на Стихи.ру. Какой можете дать совет, установку людям, которые пишут и хотят писать?
Знаете, почему очень трудно давать советы? Ты же даешь совет в какую‑то голову, не в стену. А голова, в отличие от стены, очень личностно заточена, индивидуальна. Соответственно, сколько голов, столько и личностей. То, что ты скажешь, будет воспринято в зависимости от индивидуального характера. Поэтому я с советами не очень. Я бы только сказал, я это точно знаю, и это всем подойдет: бояться не надо. Надо пробовать. Начинающим авторам я бы советовал не относиться сакрально к своему тексту, легко от него отказываться и его переделывать. Когда автор научиться переписывать свой текст три‑четыре раза, он становится писателем.
Целиком весь текст? Или фрагменты?
Можно даже и весь. Можно вообще все выбросить и написать заново. Хемингуэй в свое время, я не знаю, правда это или байка, приехав в Париж, утратил чемодан с рукописями, который привез из Америки. Там было много рассказов, набросков и т. д. У него просто на вокзале украли чемодан. Он заперся в гостинице и все восстановил. Заново написал то, что было утрачено. Я думаю, в этот момент родился писатель.
У Платонова, кажется, тоже была такая история, когда у него украли чемодан с рукописями…
И о вашем романе «Роза ветров» хочу немного поговорить. Полтора года работы, полгода подготовительных. Что для вас в этом романе главное? Почему именно эта тема была выбрана?
Я очень давно собирался писать этот роман. Лет 15, даже 20, назад, еще живя в Якутске, я прочитал в газете исторический очерк. Что был такой генерал‑лейтенант Невельской, который присоединил часть Дальнего Востока к Российской империи. Эта история постепенно приходила, накапливалась. А потом выяснилось, лично для меня выяснилось, что он открыл там Императорскую гавань. Сейчас она называется Советская гавань. Там база наших подводных лодок. А у меня отец там четыре года служил на подводной лодке. Главный старшина Тихоокеанского флота. И начались какие‑то внутренние, семейные соединения, что вот, оказывается, эти места Невельской открывал в 40‑50‑е годы XIX века. А у меня там отец служил. Для меня была очень важной привязка к моей личной истории. Полтора года назад я начал писать этот роман. И пока я делал исследование, я вдруг понял одну очень важную для себя вещь, почему я, собственно, и взялся за него, уже понял, что пишу. Дело в том, что эта эпоха, с середины XIX века, – время, когда Россия собиралась. Это было еще до страшных катаклизмов, после Александра III. Когда Николай II пришел, там уже начались проблемы: революция 1905 года, действия марксистских кружков в 90‑е годы, Ленин уже начинает свою деятельность. А в 50‑е годы ничего нет. Достоевский об этом говорит: «Это были идеалисты». Помните, он пишет о людях 40‑х годов в начале романа «Бесы». А я начал думать, почему он называл их идеалистами? А потом посмотрел – а все позитивно было. Вообще никаких практически революционных движений. Петрашевцы там чуть‑чуть, но это – ничего. И, главное, в этот момент страна собирается, она прибавляется. К ней Кавказ прибавляется, Анапа, Сочи, Черноморская линия, Дальний Восток, мы очень активно ведем политику на Южном направлении, южнее Оренбурга. Страна на подъеме. И это ощущение силы меня захватило. Я начал писать роман об этом. Такое, абсолютно не кризисное состояние умов этих молодых офицеров, дворян, которые отправляются в дали дальние, чтобы поднять там флаг России. Меня это впечатлило.
Причем это все молодые люди были. Только Невельскому убыло 35. А под его командованием на транспорте «Байкал» шли мичман и лейтенанты, которым было 21‑25 лет – мальчишки. И взяли на себя такую огромную ответственность прийти на эти территории, которые на тот момент не принадлежали никому, по Нерчинскому договору 1689 года Приамурье оставалось неразделенной территорией между Российской империей и китайской империей Цин. Земли ничьи. И прийти, начать там исследование – это было смело и политически, и личностно. Все прекрасно знали, что могут погибнуть. В это время активируются британские спецслужбы, южнее этих мест только что закончилась война британской короны с Китаем. Они просто расколотили Китай, в результате чего Гонконг отошел Англии почти до 2000 года. И, следовательно, Британия смотрит на север – надо идти выше. Сахалин рядом. Еще бы чуть‑чуть – и все эти места, где сейчас Владивосток, Благовещенск, Хабаровск, были бы британскими территориями. И то, что так не стало, что мы вышли к Тихому океану и создали предпосылки для создания Тихоокеанского военного флота, ВМФ, где служил мой отец в итоге в 60‑х годах прошлого века, заслуга всего горстки офицеров. Мы смогли выйти к Тихому океану, доказать, что Амур судоходен в своем устье, следовательно, логистика упрощалась, не надо ходить через всю планету в Петропавловск и Русскую Америку. А можно просто из Забайкалья сплавиться на баржах и выйти в море, и боевые наши корабли могут зайти в Амур, если что, и спрятаться от преследования англо‑французской эскадры, что и произошло потом, во время Крымской войны. Англо‑французская эскадра напала на Петропавловск‑Камчатский и не смогла победить наших, потому что наши ушли в Амур, в открытое Невельским устье Амура. Понимаете? А те не знали про это. А у них флота огромные – английский, французский, американский. А у нас ничего нет. Нам нужно было немедленно строить там базу венно‑морского флота. И вот в результате действий Невельского, которые я описал в романе «Роза ветров», мы пришли в Приамурье.
Вообще получается, что у вас каждый роман очень сильно не похож на предыдущий.
Да. Это я делаю концептуально. Это мой принцип. Я его не придумал, а позаимствовал у Стэнли Кубрика. Он хвастливо заявлял, я за ним не буду повторять его мысль, но скажу, как он говорил: я прихожу в жанр и закрываю его. Триллер? – пожалуйста, «Сияние». Военная драма? – пожалуйста, «Цельнометаллическая оболочка» (говорит по‑английски). Фантастика? – пожалуйста, «Одиссея 2001 года». Он говорил: «Я делаю лучшее в этом жанре». Я, конечно, ни в коем случае не претендую на слова Стэнли Кубрика, считаю, что и он ошибался на свой счет, все‑таки много было хорошей фантастики и без него. Но мне понравилась его идея менять поляну. Я такой человек, что мне нужен все время новый берег, новый горизонт. Я не могу, как Акунин, одну тему исследовать, мне просто станет скучно. Я очень быстро понимаю, как все устроено, и второй раз об этом я говорить не буду. Дальше надо следующее мероприятие делать.
Меня в свое время, еще мальчишкой, поразили слова Вахтангова, что каждый спектакль должен быть новый спектакль.
А вот этого я не знал.
Да, он это любил говорить и так и пытался работать. А не получается тогда так, что человек прочитал один ваш роман, очень полюбил, прочитал следующий – и разочаровался?
Совершенно верно. Я, Евгений, часто получаю такие отзывы. И комментарии читаю, типа ну была же «Жажда», ну зачем он написал «Рахиль». Зачем этот профессор‑полукровка, еврей, какой‑то скучный интеллектуальный бред, профессор литературы говорит о Фицджеральде. Но мне хотелось написать интеллектуальный роман, роман идей, имею же право. Я написал «Рахиль», получил даже за него ряд премий, номинирован он был во Франции на премию Медичи. То есть неплохой, видимо, роман. Но он не «Жажда» и не «Степные боги».
«Степные боги» – понятно, казацкая станица забайкальская, самогонщики, контрабанда. Это деревенский роман. И я абсолютно уверен, что человеку, который любит «Степные боги», «Рахиль» не понравится. Но все эти миры живут во мне. Я разный. Вот в чем штука. Я детство провел в деревне, и для меня это важно, забайкальская деревня, козы, которые соль лижут, я их таскал там. У меня в ушах стоит этот легкий матерок забайкальский, я знаю их говор, я люблю этих бабушек, их песни. Мне это нравится. Но вместе с этим я был профессор литературы, университетский совершенно человек, мне сны снятся не на моем языке, во сне я говорю на английском, читаю Фолкнера на английском. Его американцы не все читают, говорят, слишком сложно. А мне нормально, мне нравится. Ты же разный. И поэтому здесь – «Рахиль», здесь – «Степные боги», здесь – Невельской. Невельской по одной причине: не только мой отец служил, но и я поступал в военно-морское училище, была мечта всю жизнь быть морским офицером. Не взяли по здоровью, но искренне поехал поступать. Сейчас бы уже командовал каким‑нибудь кораблем боевым. И это тоже часть меня. Каждый раз просто смотришь, какой я сегодня.
Мне очень импонирует такой подход. Чаще люди, нашедшие успех, этот успех дальше развивают и, к сожалению, все хуже и хуже.
А тогда же это будет успех не твой, а успех конкретного текста. Вернее, конкретной темы. Это как человек занимает какую‑то должность. Например, он ректор такого‑то университета. Впереди будет все‑таки всегда идти, что он ректор. Не Александр Семенович Шестопалов, а ректор, это важнее. И для него самого важнее. А вот когда начнут понимать, что то, что ты Александр Семенович Шестопалов – это круче, чем то, что ты ректор. Дружище, это сделать гораздо сложнее. Так же, как все знают «Над пропастью во ржи», а Сэлинджер особо никому не интересен. Потому что больше нет текстов. А надо все‑таки чтобы ты был сам по себе. Чтобы это не был успех одного текста. Вот я про что.
А у вас есть своя версия затворничества Сэлинджера?
Есть, конечно.
Поделитесь?
Кончился талант. У него это получилось случайно. Ему пришло отчетливое вдохновение этого мира, он его понял, уловил биение пульса. Но он не мог повторить, потому что не знал, как это сделано. Такое бывает. Но просто ему так повезло, что он уловил настолько гениально, на сто процентов слился с персонажем и сумел это создать, и мы, когда читаем, убеждаемся: да, это правда. Но вторую вещь… Как Толстой, который пишет сначала боевые записки, вот эти «Севастопольские рассказы», потом другие вещи, а потом вдруг «Анна Каренина». И мы видим – человек развивался. У него развивалось все, не только синтаксический аппарат, но и душа, мировоззрение, взгляд на жизнь. И мы говорим тогда, мы разговариваем не только с автором этого конкретного произведения, а именно со Львом Николаевичем. И он нам становится более интересен. Сэлинджер остался автором одной вещи, ну, он не Толстой.
Но у него хватило мужества это понять.
И не писать больше. Причем я‑то думаю, Евгений, что наверняка он писал. Рассказы есть, да, но они не такие сильные.
Есть же какие‑то слухи, что что‑то найдено после его смерти.
А, найдено? Я просто как автор предполагаю, что он бы не остановился, а все равно что‑то писал. Но отдавал себе отчет, что это показывать не надо.
Ну и нужно отдать должное какой‑то американской структуре, что человек, написав одну книгу, мог потом жить всю жизнь.
Ну потому что продажи по всему миру хорошие. Я ведь думаю, что у него за миллион тираж, и даже не за один миллион. Учитывая еще всякие китайские, бразильские, русские, французские, немецкие переводы, отовсюду же шла копеечка. Точно ему на жизнь хватало.
Мог себе позволить затворничество.
Легко.
Кстати, сейчас, пока слушал про «Розу ветров», вспомнил, что в «Парадайз фаунд» героиня говорит про «Дети капитана Гранта», и вообще, эта морская тема. Какие книги вы в детстве читали?
Ну вот эти и читал. Не дочитал «Дети капитана Гранта», как героиня моего рассказа, по которому Соловьев снял фильм. Этот монолог вошел в фильм, она так и говорит: «Я так и не дочитала, не знаю». Ну потому что была оторвана часть книги. Жюля Верна читал много, Стивенсона читал, разумеется, если говорить о подростковом возрасте. Советскую литературу много читал. Каверин «Два капитана». Это же у него книга начинается с утонувшего почтальона? По‑моему, у него. Они находят труп полусгнивший в воде. На нем сумка с письмами. И там они находят письма некого полярника Татаринова, который пишет, застряв где‑то в экспедиции: «Помогите, я тут застрял». И мальчик Саня читает и говорит: «Надо искать его». Я до сих пор считаю, что это блестящая экспозиция. У тебя триллер просто: весна вскрылась – труп приплыл… Ничего себе, мальчишеская проза. Жесткач!
Кстати, отличная эта героиня, и в кино это очень хорошо легло – короткий монолог, но за ним много стоит.
Да, бывает даже лучше. Меня только горничные ненавидят. Они стучат все время, надо им убирать. Они же привыкли: человек в Париж приехал, в Рим, Нью‑Йорк, он вроде как должен позавтракать и уйти осматривать достопримечательности. А этот странный русский сидит в номере почему‑то. Выходит только вечером и только до бара, выпить немного виски.
Это ж Хемингуэй любил, в шесть утра вставал, писал и говорил, что вечером обязательно надо выпить, иначе эти персонажи тебя сведут с ума.
Да. Залакировать надо.
А какими напитками предпочитаете?
Разными. Последнее время вино красное пью в основном. Скотч мне очень нравится односолодовый.
Отлично. Тогда у меня будет для вас подарок. Скажите, вы переведены на многие языки мира – английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, болгарский, эстонский, маратхи, иврит и другие языки. На какой язык был первый перевод, помните?
Французский. Французы появились первые. Сначала повесть «Жажда» имела какой-то успех, и потом уже французы купили все книги.
И вы на Парижском книжном салоне были признаны самым популярным во Франции российским писателем. То есть вы обогнали всех‑всех наших…
Так было. Да.
А перевод на какой из этих языков был для вас особенно приятным, дорогим?
Я выделил для себя перевод на эстонский. Появился какой‑то человек из Эстонии, написал из Таллинна. И я же понимаю, что мы не дружественно расстались с Прибалтикой. И вдруг у них желание современного русского автора перевести. Я был горд. Они же думали, какую книгу выбрать, понимали, что популярностью она вряд ли будет пользоваться. Не секрет, что нас не любят в Прибалтике. И то, что они обратились именно ко мне, для меня это было важно. Но мне нравятся, разумеется, американские переводы. Потому что попасть на американский рынок – крайне сложно. Практически невозможно.
Причем вы по рейтингу Амазона входили в топ, или как это называется?
В прошлом декабре «Холод» один месяц простоял в первой пятерке прода – скачиваний на Амазоне. Я был повыше, чем Стивен Кинг и Джоан Роулинг. Это было смешно – видеть свою книгу выше «Гарри Поттера».
Это круто!
В продажах причем.
Хотел по поводу ярмарок узнать. Ярмарок много – Франкфурт, Лейпциг, Варшава, Париж, Будапешт, Женева, Нью‑Йорк, Барселона, Лондон – какая самая крутая? Где было интереснее всего?
Они очень похожи. Очень милая в Женеве. В Швейцарии очень хороший книжный салон. Парижский книжный салон прекрасен. Они действительно собирают очень много авторов со всего мира. И, помимо Парижского салона, во Франции еще очень много выставок региональных. И везде это очень мило, по‑домашнему. Французы умеют по‑домашнему делать – много вина, сыра, много веселых хороших знакомств, хорошие люди, красивые женщины. В Нью‑Йорке, Bookexpo в Америке впечатляет имперской мощью. Она очень похожа на наши ярмарки. В силу ощущения огромной страны. И американцы очень эффективны. Если во Франции и опоздания бывают, все как‑то так томно, то в Америке все очень четко – за тобой вовремя приехала машина и т. д. Франкфурт не очень люблю, это скучный город. Он был разбомблен во Вторую мировую войну и весь – новодел, Люберцы напоминает. Сам город скучный, в нем гулять неинтересно. Нью‑Йорк прикольный, там есть корейский квартал смешной, там еда вкусная.
А наша ММКВЯ ближе к нью‑йоркцам?
Пожалуй, да. Наши ярмарки похожи на американские. Они такие, как бы сказать, бизнес‑лайк. У них больше делового контента, они не хотят с вами заигрывать, не хотят быть милыми, как, например, очень провинциальная мадридская ярмарка.
Кстати о деньгах. А с какого тиража автор в России уже может оставить все и жить только литературой?
С тиража? Ну, я думаю, тысяч пятьдесят, наверное, надо. Да, тысяч пятьдесят надо продать. И тогда это будет немного. Во всяком случае, я бы не прожил на литературные заработки. Все‑таки я зарабатываю основное содержание своей семьи в кино. Сценарная работа оплачивается лучше, чем писать романы. Романы в России – это все‑таки такое прекрасное приятное хобби.
А если 50 тысяч, как часто надо издавать новый роман?
Я думаю, раз в полтора года. Раз в год даже лучше. Но тогда вы неизбежно склоняетесь к жанру. Вы уходите из внежанрового пространства серьезной литературы, и тогда – новый стахановец такой. Пишете либо детективы, либо фантастику, фэнтези. Но там тоже очень высококонкурентный рынок. Пробиться не так просто.
Как про Пелевина, которого, как я понимаю, вы не очень любите…
Не то что не люблю, я равнодушен. Человек занимается чем‑то важным для него и большого отряда его поклонников. Я очень рад, что существуют эти люди, эта индустрия…
Пелевин, Сорокин явно вам не близки.
Не близки. Мне вообще постмодерн не близок в принципе. Он оставляет меня совершенно равнодушным.
А есть ощущение, что он уже давно закончился?
Не знаю. Поскольку он оставляет меня равнодушным, я не слежу за его судьбой. Кому‑то это нравилось. Я помню, мои студенты с огромным восторгом мне говорили: «Андрей Валерьевич, почитайте Пелевина». Я прочитал «Generation П», честно прочитал. Ну, такая книга. Много абсурда. Но это было уже все. Выдавать это за новое мне, историку литературы, который изучил это все еще при Беккете, в 50‑60‑е годы, ну… это не ново. И юмор этот не нов. Даниил Хармс был в конце концов еще до всякого Беккета и Ионеско. Я понимаю, что и реализм тоже был. Возражение приемлю. Но дело в том, что он отражает жизнь. А жизнь‑то, она всегда разная.
А вам самому как историку литературы не тяжело быть писателем? Начинаете что‑то писать или задумка, и мысль – а вот это уже было. Такое вам не мешает самому?
Этот груз присутствует. Конечно. Все‑таки я профессиональный литературовед. Но мне кажется, он как раз помогает не очень повторяться. То есть когда я свежак придумываю, я знаю: это свежак. И мое образование мне помогает это понять. Когда присылают рукописи, а начинающие авторы часто пишут мне, я читаю – поскольку Олег Павлов прочитал мою рукопись, я также в ответ читаю рукописи начинающих авторов. Для них‑то это откровение. Они говорят: «Смотри, как я круто придумал». Я говорю: «Да. Но так было, дружище».
Вы зря это сказали. У нас аудитория большая, все пишущие, вас сейчас завалят (улыбается). Так, постмодерн не близок, Сорокин, Пелевин не близки. А кто из наших современных авторов близок?
Дело в том, что я не очень много читаю. Даже совсем практически не читаю. Скажем так, я читал до тех пор, пока не перешел в фазу активного письма. Тогда мне было очень любопытно, интересно. Но когда вы переходите в фазу своего письма активного, то оптика меняется. Собственно говоря, вы уже строитель. Вы все время ищете, где кирпичик лежит, куда балочку поставим… И в этом смысле просто прийти и смотреть на чужое здание у тебя: а) нет времени, б) ты точно бы построил по‑другому, сто процентов. Я читаю. Мне говорят: «Вот, хороший роман». Я читаю главу и как литературовед я точно могу сказать, что хорошо, а что плохо. И я говорю: «Друзья, вот это у вас очень талантливый парень». И все, дальше я просто не читаю. Поставить диагноз я могу, да.
Вы как‑то в интервью сказали, цитируя Васильева, – ирония деструктивна.
Совершенно верно. Это он сказал.
Я тогда стал прикидывать. Может быть, Водолазкин вам может быть близок. Нет?
Я не читал его. Пока не читал. Мне очень понравилось из последнего прочтенного начало книги Марины Степновой «Женщины Лазаря». Блестящая экспозиция. Она точно держит слог. Она хороший, плотный писатель. Внегендерный. Нельзя сказать, что это женская проза. Это просто писатель и все. Думаю, что Водолазкин, наверное, тоже замечательный писатель, потому что о нем много говорят. Просто пока не доводилось.
Насколько важен язык для писателя? В одном интервью вы тоже приводили слова про Набокова, что он стал заложником собственного стиля.
Это сказал о нем Исаак Башевис-Зингер. Он сказал: «Набоков – жертва собственного стиля».
Меня всегда мучает этот вопрос: где грань? С одной стороны, понятно, что написано должно быть хорошо. Ну, потому что если плохо написано – это не литература. Но где та грань, что ты настолько уже хорошо пишешь, что становишься жертвой?
Если интерпретировать слова Исаака Башевис‑Зингера, замечательного писателя и нобелевского лауреата, о Набокове, то я бы сказал, что он имел в виду, что Набоков попался в итоге в ту ловушку, которую я избежал, когда перестал писать 2000 знаков в день. Я думаю, что Набоков делал 500 знаков в день. И он выдрючивался. Сидел и для каждого феномена искал метафору или эпитет. Сложный. Сложносочиненный. И все его творчество превращалось в игру – игру в эпитеты. Игра в бисер. Мы вот выложили, смотрите, как красиво у нас лежат бусинки. А вся картина нас уже не очень‑то интересует. В то время как Исаак Башевис‑Зингер имел в виду, что писатель все‑таки рассказывает историю. От которой человек либо заплачет, либо засмеется, либо подумает о своей жизни и подумает: все не так плохо. Я умаю, что Исаак Башевис‑Зингер имел в виду простую вещь: будь проще, и люди потянутся к вам.
Ну а если взять всю историю литературы, какие ваши любимые писатели? Кого бы вы назвали в первую очередь?
Очень много. Гомер, Сервантес, Шекспир, их же много. Ты читаешь и влюбляешься в этого. Фолкнер для меня очень большую роль играл. Естественно, Лев Толстой. Просто огромная часть моей жизни. Достоевский. Люди делятся на тех, кто любит Толстого и Достоевского. Я люблю обоих, легко читаю обоих. Восхищаюсь разницей между ними. Грущу от того, что Толстой отказался знакомиться с Федором Михайловичем. Прошел мимо него. Мне Игорь Волгин однажды рассказал эту историю. Достоевскому сказали, что Толстой согласен с ним познакомиться. Назначили встречу в каком‑то месте. Вечеринка, все гости в комнате, а Толстого все нет – ну, задерживается, граф. И Федор Михайлович все нервничал, нервничал, потом ушел в прихожую и сел. Рядом с пальто, с шубами. Тут входит Толстой. Увидел Достоевского, узнал (подчеркивает) и прошел дальше. Не знаю, почему. Может, думал, что потом представят. Или: почему он здесь сидит? Федор Михайлович посидел, посидел, встал, вышел и ушел. Встреча не состоялась. Вот я от этого грущу, например. Два титана, причем не русской ведь литературы – мировой (говорит особенно). И я грущу, что так получилось.
У Игоря Волгина есть теория, что прошлый век был веком Достоевского, а сейчас – век Толстого.
Это любопытно. Я не слышал это от него. Но я его очень уважаю, он очень умный человек, просто так‑то не скажет. Похоже на то, да. Хотя вот эта вихреобразность Достоевского – Бахтин ее определил как оргиастичность – вот эта оргиастичность есть все‑таки и в современных текстах. Я у некоторых ребят ее вижу. Такая неаккуратность в синтаксисе, торопливость, затакт, зашаг – еще, еще, я не успею рассказать все – из‑за этого получается громоздкая структура, полная страсти и огня. Я все‑таки иногда это вижу, это бывает. Хотя я сам тяготею к аполлонической гармонии Толстого. У меня Невельской сейчас написан в этой структуре. «Степные боги» я писал в таком гармоничном синтаксисе.
Кстати, в «Степных богах» это выдуманное село…
Разгуляевка.
Да. Есть в этом какой‑то привет от Фолкнера?
Естественно, да, Йокнапатофа, самогонщики, контрабандисты. Конечно. Сама эта деревенская густая жизнь, да, Фолкнер сильно повлиял на меня. В свое время на него влиял Достоевский. Был Достоевский, Фолкнер, потом это ко мне пришло. Связи генетические существуют очень крепкие.
Еще где‑то среди любимых авторов вы называли Хемингуэя.
Да, в юности я, как и все мы, зачитывался Хемингуэем. И до сих пор считаю «Старика и море» замечательным произведением. Другие романы – не знаю, может быть, спорно. Но «Старик и море» – это сила.
Вы это все читали в оригинале?
Угу.
Вам знание языка позволяет. Есть же хорошая шутка про то, что современную русскую литературу во многом определила Райт‑Ковалева. Которая всех переводила (смеются).
Английскую, да, американскую.
А Оскар Уайльд был выбран вами…
Он был выбран из‑за Васильева. Он на третьем или четвертом курсе принес нам, сказал: «Делайте диалоги». У него есть эстетические диалоги про то, что люди разучились врать. Художественно врать прекрасно. Там два героя сидят и все время говорят об искусстве. И мы делали такой спектакль. И когда я уже бросил театр, ушел и решил писать диссертацию, идти по академической стезе, то я своему научному руководителю сказал: «Я бы хотел писать про Оскара Уайльда. Я его репетировал полтора года, я просто знаю тексты хорошо» (улыбается).
Понятно. Ну а театральные подмостки, как говорят, кто почувствовал тот запах кулис, тот обязательно…
Тот нюхает его до сих пор. Нет, я не токсикоман в этом смысле оказался. Я от скотча отказаться не могу, а от театра – легко.
Как я уже говорил, многие наши зрители – сами люди пишущие, публикующие свои произведения на Проза.ру, на Стихи.ру. Какой можете дать совет, установку людям, которые пишут и хотят писать?
Знаете, почему очень трудно давать советы? Ты же даешь совет в какую‑то голову, не в стену. А голова, в отличие от стены, очень личностно заточена, индивидуальна. Соответственно, сколько голов, столько и личностей. То, что ты скажешь, будет воспринято в зависимости от индивидуального характера. Поэтому я с советами не очень. Я бы только сказал, я это точно знаю, и это всем подойдет: бояться не надо. Надо пробовать. Начинающим авторам я бы советовал не относиться сакрально к своему тексту, легко от него отказываться и его переделывать. Когда автор научиться переписывать свой текст три‑четыре раза, он становится писателем.
Целиком весь текст? Или фрагменты?
Можно даже и весь. Можно вообще все выбросить и написать заново. Хемингуэй в свое время, я не знаю, правда это или байка, приехав в Париж, утратил чемодан с рукописями, который привез из Америки. Там было много рассказов, набросков и т. д. У него просто на вокзале украли чемодан. Он заперся в гостинице и все восстановил. Заново написал то, что было утрачено. Я думаю, в этот момент родился писатель.
У Платонова, кажется, тоже была такая история, когда у него украли чемодан с рукописями…
И о вашем романе «Роза ветров» хочу немного поговорить. Полтора года работы, полгода подготовительных. Что для вас в этом романе главное? Почему именно эта тема была выбрана?
Я очень давно собирался писать этот роман. Лет 15, даже 20, назад, еще живя в Якутске, я прочитал в газете исторический очерк. Что был такой генерал‑лейтенант Невельской, который присоединил часть Дальнего Востока к Российской империи. Эта история постепенно приходила, накапливалась. А потом выяснилось, лично для меня выяснилось, что он открыл там Императорскую гавань. Сейчас она называется Советская гавань. Там база наших подводных лодок. А у меня отец там четыре года служил на подводной лодке. Главный старшина Тихоокеанского флота. И начались какие‑то внутренние, семейные соединения, что вот, оказывается, эти места Невельской открывал в 40‑50‑е годы XIX века. А у меня там отец служил. Для меня была очень важной привязка к моей личной истории. Полтора года назад я начал писать этот роман. И пока я делал исследование, я вдруг понял одну очень важную для себя вещь, почему я, собственно, и взялся за него, уже понял, что пишу. Дело в том, что эта эпоха, с середины XIX века, – время, когда Россия собиралась. Это было еще до страшных катаклизмов, после Александра III. Когда Николай II пришел, там уже начались проблемы: революция 1905 года, действия марксистских кружков в 90‑е годы, Ленин уже начинает свою деятельность. А в 50‑е годы ничего нет. Достоевский об этом говорит: «Это были идеалисты». Помните, он пишет о людях 40‑х годов в начале романа «Бесы». А я начал думать, почему он называл их идеалистами? А потом посмотрел – а все позитивно было. Вообще никаких практически революционных движений. Петрашевцы там чуть‑чуть, но это – ничего. И, главное, в этот момент страна собирается, она прибавляется. К ней Кавказ прибавляется, Анапа, Сочи, Черноморская линия, Дальний Восток, мы очень активно ведем политику на Южном направлении, южнее Оренбурга. Страна на подъеме. И это ощущение силы меня захватило. Я начал писать роман об этом. Такое, абсолютно не кризисное состояние умов этих молодых офицеров, дворян, которые отправляются в дали дальние, чтобы поднять там флаг России. Меня это впечатлило.
Причем это все молодые люди были. Только Невельскому убыло 35. А под его командованием на транспорте «Байкал» шли мичман и лейтенанты, которым было 21‑25 лет – мальчишки. И взяли на себя такую огромную ответственность прийти на эти территории, которые на тот момент не принадлежали никому, по Нерчинскому договору 1689 года Приамурье оставалось неразделенной территорией между Российской империей и китайской империей Цин. Земли ничьи. И прийти, начать там исследование – это было смело и политически, и личностно. Все прекрасно знали, что могут погибнуть. В это время активируются британские спецслужбы, южнее этих мест только что закончилась война британской короны с Китаем. Они просто расколотили Китай, в результате чего Гонконг отошел Англии почти до 2000 года. И, следовательно, Британия смотрит на север – надо идти выше. Сахалин рядом. Еще бы чуть‑чуть – и все эти места, где сейчас Владивосток, Благовещенск, Хабаровск, были бы британскими территориями. И то, что так не стало, что мы вышли к Тихому океану и создали предпосылки для создания Тихоокеанского военного флота, ВМФ, где служил мой отец в итоге в 60‑х годах прошлого века, заслуга всего горстки офицеров. Мы смогли выйти к Тихому океану, доказать, что Амур судоходен в своем устье, следовательно, логистика упрощалась, не надо ходить через всю планету в Петропавловск и Русскую Америку. А можно просто из Забайкалья сплавиться на баржах и выйти в море, и боевые наши корабли могут зайти в Амур, если что, и спрятаться от преследования англо‑французской эскадры, что и произошло потом, во время Крымской войны. Англо‑французская эскадра напала на Петропавловск‑Камчатский и не смогла победить наших, потому что наши ушли в Амур, в открытое Невельским устье Амура. Понимаете? А те не знали про это. А у них флота огромные – английский, французский, американский. А у нас ничего нет. Нам нужно было немедленно строить там базу венно‑морского флота. И вот в результате действий Невельского, которые я описал в романе «Роза ветров», мы пришли в Приамурье.
Вообще получается, что у вас каждый роман очень сильно не похож на предыдущий.
Да. Это я делаю концептуально. Это мой принцип. Я его не придумал, а позаимствовал у Стэнли Кубрика. Он хвастливо заявлял, я за ним не буду повторять его мысль, но скажу, как он говорил: я прихожу в жанр и закрываю его. Триллер? – пожалуйста, «Сияние». Военная драма? – пожалуйста, «Цельнометаллическая оболочка» (говорит по‑английски). Фантастика? – пожалуйста, «Одиссея 2001 года». Он говорил: «Я делаю лучшее в этом жанре». Я, конечно, ни в коем случае не претендую на слова Стэнли Кубрика, считаю, что и он ошибался на свой счет, все‑таки много было хорошей фантастики и без него. Но мне понравилась его идея менять поляну. Я такой человек, что мне нужен все время новый берег, новый горизонт. Я не могу, как Акунин, одну тему исследовать, мне просто станет скучно. Я очень быстро понимаю, как все устроено, и второй раз об этом я говорить не буду. Дальше надо следующее мероприятие делать.
Меня в свое время, еще мальчишкой, поразили слова Вахтангова, что каждый спектакль должен быть новый спектакль.
А вот этого я не знал.
Да, он это любил говорить и так и пытался работать. А не получается тогда так, что человек прочитал один ваш роман, очень полюбил, прочитал следующий – и разочаровался?
Совершенно верно. Я, Евгений, часто получаю такие отзывы. И комментарии читаю, типа ну была же «Жажда», ну зачем он написал «Рахиль». Зачем этот профессор‑полукровка, еврей, какой‑то скучный интеллектуальный бред, профессор литературы говорит о Фицджеральде. Но мне хотелось написать интеллектуальный роман, роман идей, имею же право. Я написал «Рахиль», получил даже за него ряд премий, номинирован он был во Франции на премию Медичи. То есть неплохой, видимо, роман. Но он не «Жажда» и не «Степные боги».
«Степные боги» – понятно, казацкая станица забайкальская, самогонщики, контрабанда. Это деревенский роман. И я абсолютно уверен, что человеку, который любит «Степные боги», «Рахиль» не понравится. Но все эти миры живут во мне. Я разный. Вот в чем штука. Я детство провел в деревне, и для меня это важно, забайкальская деревня, козы, которые соль лижут, я их таскал там. У меня в ушах стоит этот легкий матерок забайкальский, я знаю их говор, я люблю этих бабушек, их песни. Мне это нравится. Но вместе с этим я был профессор литературы, университетский совершенно человек, мне сны снятся не на моем языке, во сне я говорю на английском, читаю Фолкнера на английском. Его американцы не все читают, говорят, слишком сложно. А мне нормально, мне нравится. Ты же разный. И поэтому здесь – «Рахиль», здесь – «Степные боги», здесь – Невельской. Невельской по одной причине: не только мой отец служил, но и я поступал в военно-морское училище, была мечта всю жизнь быть морским офицером. Не взяли по здоровью, но искренне поехал поступать. Сейчас бы уже командовал каким‑нибудь кораблем боевым. И это тоже часть меня. Каждый раз просто смотришь, какой я сегодня.
Мне очень импонирует такой подход. Чаще люди, нашедшие успех, этот успех дальше развивают и, к сожалению, все хуже и хуже.
А тогда же это будет успех не твой, а успех конкретного текста. Вернее, конкретной темы. Это как человек занимает какую‑то должность. Например, он ректор такого‑то университета. Впереди будет все‑таки всегда идти, что он ректор. Не Александр Семенович Шестопалов, а ректор, это важнее. И для него самого важнее. А вот когда начнут понимать, что то, что ты Александр Семенович Шестопалов – это круче, чем то, что ты ректор. Дружище, это сделать гораздо сложнее. Так же, как все знают «Над пропастью во ржи», а Сэлинджер особо никому не интересен. Потому что больше нет текстов. А надо все‑таки чтобы ты был сам по себе. Чтобы это не был успех одного текста. Вот я про что.
А у вас есть своя версия затворничества Сэлинджера?
Есть, конечно.
Поделитесь?
Кончился талант. У него это получилось случайно. Ему пришло отчетливое вдохновение этого мира, он его понял, уловил биение пульса. Но он не мог повторить, потому что не знал, как это сделано. Такое бывает. Но просто ему так повезло, что он уловил настолько гениально, на сто процентов слился с персонажем и сумел это создать, и мы, когда читаем, убеждаемся: да, это правда. Но вторую вещь… Как Толстой, который пишет сначала боевые записки, вот эти «Севастопольские рассказы», потом другие вещи, а потом вдруг «Анна Каренина». И мы видим – человек развивался. У него развивалось все, не только синтаксический аппарат, но и душа, мировоззрение, взгляд на жизнь. И мы говорим тогда, мы разговариваем не только с автором этого конкретного произведения, а именно со Львом Николаевичем. И он нам становится более интересен. Сэлинджер остался автором одной вещи, ну, он не Толстой.
Но у него хватило мужества это понять.
И не писать больше. Причем я‑то думаю, Евгений, что наверняка он писал. Рассказы есть, да, но они не такие сильные.
Есть же какие‑то слухи, что что‑то найдено после его смерти.
А, найдено? Я просто как автор предполагаю, что он бы не остановился, а все равно что‑то писал. Но отдавал себе отчет, что это показывать не надо.
Ну и нужно отдать должное какой‑то американской структуре, что человек, написав одну книгу, мог потом жить всю жизнь.
Ну потому что продажи по всему миру хорошие. Я ведь думаю, что у него за миллион тираж, и даже не за один миллион. Учитывая еще всякие китайские, бразильские, русские, французские, немецкие переводы, отовсюду же шла копеечка. Точно ему на жизнь хватало.
Мог себе позволить затворничество.
Легко.
Кстати, сейчас, пока слушал про «Розу ветров», вспомнил, что в «Парадайз фаунд» героиня говорит про «Дети капитана Гранта», и вообще, эта морская тема. Какие книги вы в детстве читали?
Ну вот эти и читал. Не дочитал «Дети капитана Гранта», как героиня моего рассказа, по которому Соловьев снял фильм. Этот монолог вошел в фильм, она так и говорит: «Я так и не дочитала, не знаю». Ну потому что была оторвана часть книги. Жюля Верна читал много, Стивенсона читал, разумеется, если говорить о подростковом возрасте. Советскую литературу много читал. Каверин «Два капитана». Это же у него книга начинается с утонувшего почтальона? По‑моему, у него. Они находят труп полусгнивший в воде. На нем сумка с письмами. И там они находят письма некого полярника Татаринова, который пишет, застряв где‑то в экспедиции: «Помогите, я тут застрял». И мальчик Саня читает и говорит: «Надо искать его». Я до сих пор считаю, что это блестящая экспозиция. У тебя триллер просто: весна вскрылась – труп приплыл… Ничего себе, мальчишеская проза. Жесткач!
Кстати, отличная эта героиня, и в кино это очень хорошо легло – короткий монолог, но за ним много стоит.
Евгений Сулес
